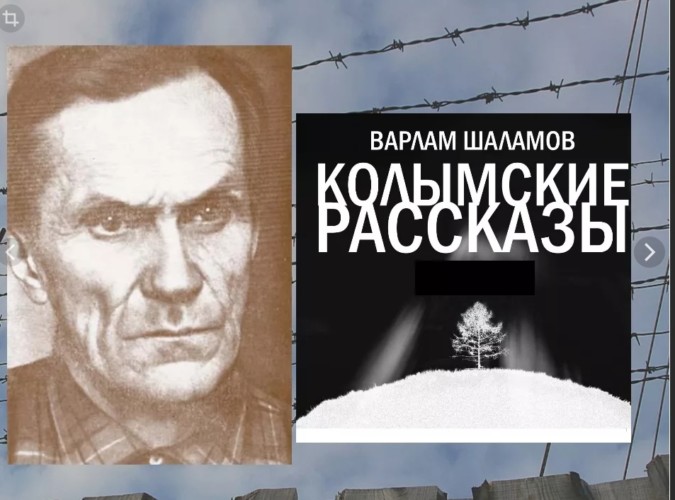Елена КРЮКОВА
РАСКОЛ
фрагменты
(премьера)

(Аввакум и Детство)
Три Лика над временами висят. Смещаются времена многажды и стократ, переслаиваются, жарятся на чёрной сковороде, аки блины… а я всё вижу, вижу самоцветные сны… А я всё зрю да зрю, яко робенком, беспросветные сны — как, грудью противу ветра, в санях скольжу поперёк да восточной стороны; как Солнце, навстречь сам себе по ободу земляному качусь — а шею ко звездам выгнул, инда бессловессный сребряный гусь! Рыба да птица… спицы в колеснице… колёса иных, занебесных телег… мне моё детство все снится да снится, я ведь лишь человек, а землетряс повозку мою колыхает, трясётся октябрь и январь, гудит-дрожит в застенке седая столешница, без пищи, пуста, нагая… жена, хоть к вечере воли изжарь… Хоть немереной, кровавой, вкусной свободы, — с пылу-жару схвачу, обожгусь… зубы волчьи в жизнёшку вонжу… на краю лавки в темнице молчу… с изнанки, свиной кожи, испода… возожгу себя, аки свечу… Три Лика, всего лишь Три Лика, а и кто они, да знамо, кто: один — батька, другая — матка, поперёд родильного крика я, брадатый, битый-распятый, молочный мороз хватаю голодным ртом… А кто ж третий-то Лик? не различу… старик… колыхается мрачным златом линь-щека, скула чешуйчато-морщена, струятся власы-серебрянка… Он глядит на меня краткий миг, всего лишь миг… и мне страшно: взрыхлили небесную пашню, вместо храмины Божьей — гомон, гул, гулянка… А вы!.. Родину нашу надвое раскололи. Разрубили, яко огнём да мечом, надвое — луг, надвое — поле, надвое — сердце: гляди, что почём… Раскол! а и кто там снова жжёт себя в срубе?.. сожигает, Господу Богу во славу, катятся перлами глаза, бормочут вешней водою, поют заполярным ветром губы, вот он, лютый огнь, небесная — на полмiра — держава! Там-то, в небесех, наше Царство!.. наш хлебный кус!.. музыка наша!.. на кимвалах, систрах, тимпанах сыграйте!.. а и што сыграть-то вам?.. полную крови чашу?.. да, Граалеву чашу, испейте вволюшку крови Господней, не умирайте…
Я качусь в санях. Это детство моё катит малюткой-болярином из погибшей в полях, срубовой чёрной бани. Это детство моё везёт меня прочь от себя, уцепившись мохнатым когтистым котом за бечёвку. Это детство, детство моё я все ловлю, ловлю сухими губами, а через миг — солёными: плачу морями полынных слёзынек, насыщаюсь великими стонами, ведь нынче лишь во смерти ночёвка… Лишь дорога, дорога, — она одна через всю земельку, дорога-дорога! Лишь судьба-судьба, — ведь она одна, моя судьба, другой уж не будет. Лишь Раскол мой, Раскол, всё расколото, от Ада до Бога, — увези мя, Боже, на себя непохожего, во огненной дрожи, снова в детство… увезите меня туда, люди, люди, о люди…
Ох ты, детство моё… на морозе бельё… неба синий котел… уха облаков… плыл осётр, да и был таков… плыла стерлядка, да была такова… на морозе гаснет трёхрядка, скоморошья иней-трава… на морозе гибнут безумные Божьи слова… а я жив… и вера моя жива… власть моя умрёт… а вера моя живёт… синий огнь под полозом, звёздный лёд… сколь страданий ещё, родная моя попадья, претерпеть… ещё жизни треть… ещё вечности треть… бичеваний плеть… погост и поветь… кандальная клеть… окладная медь… люди, я просто в санках козявка, малёк… снег алмазно слепит… путь ночной далёк… путь ночной широк… лёт ночной высок… надо мной, робёнком, во всю глотку хохочет мой Бог…
Закину башку в бараньей ушанке: Три Лика… в зените Три Лика… острее зрак вонзи, прищурься, молись, эх, гляди-ка… Непостижимы… неприступны… присносущны… трисиянны… То Детство моё, то Любовь моя, то Смерть моя: неведомы, мимохожи, без шерсти-кожи, любовью больны, чужестранны… Вчера явлены, нынче сновиденны… в Новолетие вечны, сей же час бренны… То златом иконным горят, то лисьей кистью писаны, будьто парчовой гордыни парсуны… то мерцают, ровно глаголица гнева, ровно заречные молнии-руны… рокочут, ливня лунные струны… А я все в санках качусь, да санки те уж сами с усами, самобранно, чудесно по снегу свищут, и я в них сижу, ввечеру — Царь, а поутру — Золотарь, оборванный Нищий, и я, зри, народ, заутра воссяду на Судилище Грозное со всеми избранниками твоими, и я, беспородный щенок, вою жизнь напролёт, из гончих, звонкого лая Царских пород, лишь ребячье, заячье повторяю имя — лаской мамки… за звёздной печкой… за треском дров, тепло насыщает кров, ищо ништо не свершилось… ищо никто не казнён, не убит… ищо нигде не болит… вот так, посидим у огня, обними крепче меня, пусть великое небо во срубе горит… немного ищо, во сне, в ночи, в тишине… сделай милость…
(Аввакум и я: речи наши)
Она мне денно и нощно баяла, эта пришелица, из Сиянья Севернаго сотканная, што ль, али из иной лучистой парчи, струящейся из поднебесья матерьи, шептала безустанно, што свидетельница всему. Всему, што было, есть и будет. А што будет? Волна чудовищная с моря синяго на нас, грешных, нахлынет? Да и смоет нас и наши все грехи? Вот бы хорошо бы. Гляжу я в лико той девчонки, а она уж не девчоночка, инда морщины на щеках и лбу зрю; то морщины отчаяния и беспрерывной молитвы. Я сразу вижу, насквозь, тово, кто молится, и тово, кто ни рта, ни сердца не разевает, штобы к Богу Господу воззвати.
Она шепчет мне: вижу, вижу всё, што происходит ныне. Вижу всё умершее. Зрю грядущее. Тяжко это, отченька, так бормочет. И только што не взывает: исцели! Отбери у мя это наказанье! Я ей так бормочу в ответ: ну како ты можеши зреть грядущее, ведь ты ево не перешла ноженьками, на лодчонке не переплыла! А токмо себе вообразила дерзновенно! А ты представь, што тя во грядущем — нет! Нетути, и всё тут! Нет и не будет! Ты, бормочу, из древняной лодьи подземной восстанеши лишь на Страшном Суде!
А она мне: ну и што, што нет мя там, песней прижмуся ко устам, я и там Христа Бога — не предам! Время, отче, ведь нет ево. Время видать на просвет, яко осеннее жнитво. А и ты, шепчет, и ты, не отпирайся, свидетель всево.
Чево свидетель-то, тако ей шиплю-хриплю в ответ, тово ли, што самого Времени нет как нет?
А она мне: ты, мол, по Аримафее гулял, по Аттике гулял, Сократу внимал, Платону кивал, Псапфу целовал, Горация наставлял, с Овидием выпивал, за Вергилием во тьму Ада увился — да там и пропал… И это всё, бормочет, ты! Ты один! Поверх всех твоих свадеб, похорон и годин…
А потом про Раскол мне бормочет. Терпеть сие, шепчет, нет мочи. Звезда Раскола восходит в полночи. И не остановитися ему, не прерватися: он нас всех побороть хочет.
А што ты, девка, вопрошаю ея, понимаеши под Расколом? Горе голое? Страха скалы и сколы? Земелька разыдется, да ведь кровь, кровушка-то останется! Кровь, она што во Царе, што во горьком пьянице, не ломается, не кувыркается, лишь течёт-течёт, с пути не сворачивая, лавой красною, на морозе дымною, горячею… Ежели кровь наша с нами — не страшно нам никаково Раскола лютое пламя!
А она внезаапу предо мной на колени встаёт. На меня взирает, яко на икону. И так нашёптывает мне, вяжет словесную вязь, я во словесех ея тону, иду ко дну, а потом выплываю, да вижу: моя девка живая, и будьто два громадных крыла у нея за спиной, и машет ими она надо мной, птицей залётной, шальной, а может, то плывет Луна-синица над грохотом Раскольных скал, а может, то с небес Ангелица, а я ея — не признал… Слушаю да запоминаю. Вам, людие, передаю. Всю жизнь она зрит — вашу и мою.
…Мiръ медленно, страшно, с треском, постепенно, неумолимо раскалывается. На подделку и истину. На грязь и чистоту. На вражду и любовь. На здравие и хворь. Сам Мiръ, прежде единый, когда-то неделимый, раскалывается на войну и миръ. И война будет постоянной, а миръ будет маленький, жалкий, беспомощный, недолго живущий. И опять война. Вместо мира станет одна война. Она землю покроет слоями, заплатами. И люди перестанут быть крылатыми. Видишь крылья у меня за спиной? Так больше не будет со мной. Крылья изрубят. Изранят. Истопчут. Оборвут. Мiръ станет лют. Мiръ станет казнью одной. Помолися, отченька, штобы жить, вместе со мной.
…и она крестилась и молилась, моя зело странная девка, поклоны земные клала, без конца и начала, и я повторял молитвы ея, с начала времён, до конца бытия, и, Боже, почему же я неотступно чуял ту подспудно текущую кровь, то красное пламя внутри, ту лаву из песен и слов, это красное море рук, лиц и глаз, тел на поле боя, младенцев в родильной крови, это всё чуял, што будет со мной и с тобою, и чего уж не будет со мной и с тобою, хоть слезами облейся, всю жизнь обреви, и я только вопрошал ея, тихонечко, одною мыслью, не голосом даже, а дыханьем одним, улыбки сияньем: ответствуй, а когда тот Раскол начался, и долго ль продлится, и чем мы спасёмся, дитя?.. может быть, покаяньем?..
А она очи закрывала. Жмурилась, и вправду на робёнка похожа. Нет, отвечала, не поймать нам первой Раскольной дрожи. Когда земля дрогнула всею кожей? Когда волна из недр окияна восстала? Не знает никто. И никто не подскажет, как жизнь нам начати сначала.
Я про Время тебе, отче, так скажу, бает. Вот Времени один слой. Он подземный; мрачный; немой. Туда никто не попадает, и оттуда никто не вернётся. Там нету звёзд и солнца. Непроглядная тьма. Человеку можно сойти там с ума. Ибо мы привыкли, что время течёт рекой. А там — сумасшедший покой.
Вот второй Времени слой, вспыхнет во тьме ночей. Он поделен на лоскутья, и каждый вольно пришей! Хочешь — к себе, а хочешь — к иной судьбе. Застывает слезой на дрожащей губе. Это Время переливается, играет, так, играючи, и помирает. А после, играючи, и возродится… беспечные пляски, румяные лица! На рукаве — птица-синица жизнию прежнею снится… И вдруг — раз!.. — и канет… розой увянет… перловицей манит… плясать не престанет…
Ах, отче, третий Времени слой от крови никем не отмыт — копьем навылет летит. Он един. Он один. Люди мнят, што вот оно-то и есть настоящее Время, царит надо всеми. Копье летит, пробивает насквозь всё, што в жизни любить довелось! Ево не отмыть от крови и слез. То Время тяжелое, весит грозно на чаше Судных весов. Не любишь ево?! Стань ево любовь. Не хочешь ево? Крепче обними. Благодари за жестокий урок. Копьё летит сквозь ночи и дни. Сквозь то, чем ты клялся. Што позабыл. Через Триоди и Святцы и землянику могил.
А вот и четвертый Времени слой. Он мой! Он только мой! Он для чужака — тайна. А мне — любим и свят. Для нево одново мои свечи горят. Паникадила мои. Кануны мои. Во храме. Во полях. В ночи любви. На плахе, где новая казнь мя ждёт. Иду без страха. Сердце песню поёт.
А пятый Времени слой… о, батюшко, не знаю, как и сказать! Это времечко движется вспять. Вспять — для нас; а для существ иных? Иноплеменных, инозвёздных, просиявших на Луне и Солнце святых? И там, не смейся, ты можешь вернуться к началу начал. И там сказать то, што хотел, да не сказал. Оно, то Время, прорывает червём внутринебесный ход, и в червоточину ту льётся наша кровь: вперёд, вперёд! А вперёд — то назад. А потушенные свечи горят. А убитые — воскресли. А порицаемый — свят. Если жить заново… если… коли родиться вдругорядь… споёшь ли ту же самую песню?.. в иных временах не сыскать…
Ах, отченька! И вот он, вот же, вот шестой Времени слой. Смерть и живот, потоп и плот, огонь и лёд — всё захлёстывает мощной волной. Всё единит. Всё связывает. Всё накрывает омофором. Всё заключает в объятья. Все — родня: цари, плясуньи, монахи, торговцы, воры; все в нём — сёстры и братья. Это общий котёл! И там варимся все мы. Это распоследнее, невыносимое, на руках носимое Время! Дары носящее. Вдаль остро глядящее. За нас — двунадесятью языками — говорящее. Нами — языками огня — в предвечной ночи — горящее. Ты понял?! Оно за нами не в погоне. То мы к нему течем, притекаем, в нево реками втекаем, инда в море, ево собою насыщаем, своею радостью и горем. А оно и глотает нас жадно, бесповоротно. Делает самими собою. Мы — потроха тово Времени, клубимся, шевелимся, бежим гурьбою. Мы снова превращаемся в кровь, и кровью течём, вспыхиваем ея безумием алым… для тово лишь, штобы сие последнее Время всё жило, дышало, сверкало, не престало…
Оборвала речь бессвязную. Ясно на мя поглядела. Душу очами вынула из утлово тела. Я молчал; а што было говорити? Што балакати зряшно было? В девке той таилась великая сила. Я хотел усмехнутися, обратити в шутку всю ту сказку про Время. А девка на мя глядела, будьто я бессмертен меж смертными всеми, будьто я не протопоп жалкий, а Господень подарок всей землице страдальной, всей людской ойкумене… да вдруг как шепнёт жарко: покажу тебе миг Раскольный, коль желаешь, да будет то больно, а не забоишься? не захолонет сердчишко?.. а какая будет твоя мена? Што ты мне, мне взамен откроешь? Да не надо… я пошутила, отче… я ж твоей пятки не стою…
Я ей: ну давай, открывай! А она мне: передумала я. Потом. Не сейчас. Когда слёзы у тебя водопадом польются из глаз. Тебе рано ищо Трещину Раскола видать. Так живи. Мучайся. Молися. Люби. Тебе исполать.
***
(Аввакум и кровь)
Людие, людие. На ково вы делитеся? Вот и я хотел бы узнати. Жизнь земную живу, а доселе не узнал. Разномастных таково много людишек. Род людской неистощим, а Господь нетрепетной руцею Своею бросает в Мiръ, инда как Сеятель, таковых инаких, непохожих. И люди суть Ангелы бывают, а суть звери, даром што созданы по образу и подобию Божию. От злодея Каина народились каиниты, от добряка Авеля — авелиты, да давно уж изникли те племена меж иных племен, влились древним народом в новые народы. Так перетекает вольная кровь. Люди, мы, носители крови, яко и всё живое, живущее. Кровушка — признак живого. Тово, што ты, брат, живеши. Ну живеши; живи и живи! Я не вынесу твоея любви; ты не снесёшь моея смерти.
Священство моё позволило мне говорити с людьми не токмо об их житии, но наипаче — об ихней смерти. Смертушка. Я во мнозих храмах служил, и множество духовных детишек за всю-то жизнь заимел. И близ Волги-реки, и во стольном граде Москве, и во таёжной Сибирской сторонушке — везде я людям проповедовал о том, како не токмо праведно жити, но во имя чево предстоит праведно умирати. Слово о смерти им своё — говорил.
Да это ж та материя, людие, смерть, о коей живой душе воспрещено самою душою — думати, сокрушатися, размышлять, восчувствовать уход свой, как наиважнейшее событие внутри людского бытия. Чем страшна война и чем она важна? Да тем, што человек на ней, на войне, помирает! Ево убивают, и он ко Господу отходит, и часто без покаяния да без причастия. Тёмно это. Вот этим война и исполняет волю диаволю. Волю Адову. А у Господа-то сказано: смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и Ангелы радуются на небеси!
Духовные детоньки мои таково часто просили мя сказать им хоть тихое слово о смерти. Ну я и говорил.
Хотя находилися округ мя люди, и так поучительно провещивали: зря ты, протопоп, живому-живущему о смерти талдычишь, ну явится она и явится, в свой черед, всё за нас природа сделает, всё устроит, а што об том зазря перешабалтывать; иные и пугали мя, нашёптывали: чем дольше да больше будеши, протопоп окаянный, пастве о смерти гудеть, тем скорей сам и умрёшь!.. да, таково и припечатывали.
А я на краю смертушки оказывался не раз. Не раз и не два. А вот же, цела моя голова. То девица ко мне притечёт, красавица, смуглявица, вся обверчена жемчугами, инда царица, белошеяя, белокурая, исповедь у нея принимаю, а сам весь огнем горю блудным, мрачным, непоборимым, она на коленях предо мною, а я ея по щеке ладонью глажу, а ладонь вся моя пламенем охвачена! И нутро, и душа сама! Тогда иду во сарай. Там дровяник. А над дровяником икона висит, самолично гвоздюрик приколачивал, штобы на дощатую стенку водрузить. Пантелеймон целитель. А под дровёшками коса валяется, старая, да вострая, ищо отцова, батюшки моево Петра. Я хватаю ту косу да себе во грудь лезвиё-то и наставляю! И уж хотел было нажати рукою покрепче и в яремную ямку остриё вонзити — а взор мой как упадёт на образ святой! И увидал я близко, ну как навроде близ лица своево, лик вьюныша святаго! Глаза ево громадные, по плошке, таково страшно, страдно ко мне и приблизились! Щека ево, лоб к моему лбу присунулись, и зрю, како дрогнул рот, скорбно стиснутый, словно бы вьюныш што мне желал сказати наиважнейшее, во всея жизни единственное! Я застыл. Яко изо льда фигура на бреге холоднова озера. Гляжу на святаго Пантелеймона целителя. И он на мя глядит. Не отрывает взора. Што ж, глазами говорит, я людей излечивал, меж раненых ходил, кто при смерти едва дышал, из рук смерти вынимал, изо тьмы своими руками доставал, мазал всех чудесными снадобьями, целебными отварами поил, молился за всех, штобы пожили люди ищо на земле, — а ты? Што ты задумал? Да ведь грешника, тя, урода, над самим собою глумящевося, уж никто да ни в каком Божием храме не отпоёт! Не ты жизнь себе дал, не тебе ея у себя и отымать!
И отшвырнул я от себя вострую косу, ею же отец мой траву под корень косил, да и я сенокосил всласть, животине пищу на зиму усердно заготавливая. И ужаснулси самому себе, будьто бы я не человек уж пребыл, а диаволово отродье, Адова каракатица. На колена пал и стал молитися святителю Пантелеймону. Уж так благодарил ево! Слезами лице мое было тогда сплошь улито, всё мокрое, инда рубаха влажная, бабой в реке стираемая… Так, плача, в избу и возвернулся. За стол дубовый сел, локтями на нево оперся и думу думал. И надумал: ведь мя будут ищо бить-колотить, по земле голяком возить, камнями лупить. Будут мя убивать, и я буду умирать. Всё то ищо будет! Так зачем поперёд веления Господа Бога твоево ты сам во смерть захотел прыгнуть?
Да, да, да. Всё канет без следа. Процарапанный глубко лишь смерти след. А для Господа смерти не было и нет. Я и хворал тяжко; попадья меняла мне рубашки, я молился, штобы не выдернул мя Господь из жизни моей, будьто я лук аль сельдерей, на подушке голова моталаси туда-сюда, детки плакали и вопили, посреди избы плясала моя беда… а на порог взошёл болярин большой, чёрный, аки уголь, душой, я ему проповедями моими дорогу пересёк, он и возгневался, грянул срок: он мя, больново, да в кровь избил-излупил, прямо в постеле моей, а попадья с детями на сенокосе была: как раз тою косой, отцовой, траву секла. Лежу избитый. Живова местечка на телесах нет. И вижу: входит. Худая, тощая. Бледная, паче снега. Платье чёрное. Монахиня, думаю, Богом послана, из каково монастыря?.. из Желтоводскова, из Санаксарскова?.. Стоит. Молчит. Мя хладом обдало. Догадался я, кто это. Молчим оба. Страх мя взял, потом отпустил. И так светло все стало, словно бы изнутри воссияло всё вокруг. Вся изба, постеля моя, образа на срубовых стенах. Гляжу на Смерть. Она — на меня. Ей тихо говорю: Смертушка, ты рано явилась! Я ныне тебе не дамся. Она молчит, и уста не шевелятся, а глас ея вроде как слышу. Вроде как тихий акафист поёт. Только страшный. То не тебе решати, бормочет, а мне. Я тут владычица. А ты козявка.
И ссилился тут я, и приподнялси тяжко в постеле на локтях, и выкрикнул Смерти в бледное, снежное лице ея: прочь! Знаю, от тебя не отвертишься. Да я и не хочу. Но ведаю, што — не срок мне нынче. Ищо множество дел должон я на земле свершити. Ни ты, ни кто другой не воспрепятствует в том мне! Чую, Господь мне велит дале итти. Дале! Ступай с миромъ! Отыди с миромъ!
И она отошла.
…А на другой день явилися в село скоморохи. Зачали петь-плясать, песни нахальные кричать, бубны звоном ломать! Колесом наглым катались! Народ на них сбежался глядети, а они изгалялись, прыгали на бреге широкой реки. Вопили: излечим вас, людие, от тоски! А я из толпы им орал: какая же тоска, ежели с Богом Христом ты! В Боге нету ни страданья, ни маяты! В Боге Господе небеса святы, а в Матушке Богородице — Солнце небесной красоты! Не слушали мя, огненно плясали. И я восхотел их поколотить. Ну, штобы убрались подобру-поздорову! И зачалась могучая драка. Я скалку в руки взял и ею махал. По башкам, по раменам плясунов ударял. О Христе взахлёб на морозе кричал! Да разве в такой куче-мале кто услышал мя! Драка, и опять кровь, красные шматки ея огня… кровь… лилась… во снег и грязь… и я остановился, встал, отдуваясь, утираясь от крови, запоздало молясь…
Наша беда — мы опаздываем. Не поспеваем. Время не нагоняем. Мы — поздно — везде! Мы не прорастаем зерном в борозде! Мы лишь хотим, а делаем все в мечтах. Нам бы храбрее стать, да борет нас детский страх!
Вот так и смерти боимся. Да! таково сильно страшимся ея. На краю судьбы… на краю бытия…
…Смерть наступит. Пробьют ея часы. Ты встанешь на ея весы. На другую чашу встанет она — теперь у тебя, человече, одна. Когда, о, когда же, когда пробьёт этот час, где столкнутся лбами все города, где с места стронутся и огнём вспучатся все материки… а остановить Время смерти твоей тебе, жалкий, не с руки…
Когда, о когда, в самом деле, по-настоящему мы умрём, от лютой ли хвори, Господи, моляся пред Твоим алтарём, разобьёмся ли, кони вдруг понесут, или нещадно, в кровь, нас изобьют, ничево мы не ведаем… ни годов, ни часов, ни минут… Ни прощального колокола, где он звонит по тебе, всё это в грядущем, всё это рыданья соль на губе, день и час смерти — мгновенье твоё последнее, бродяжка блаженная ль, грозный ли протопоп, мощный Царь либо жалкий нищий, монах, чей заране сколочен смиренный гроб… Ты мнишь себя бессмертным, ты, ветка краснотала, бесконечность чтишь по корявым слогам, смерть, она твой осколок зерцала, твоё мне отмщенье, и аз воздам, ты узнаешь о часе ея прихода, лишь когда приходит она… а тебе уже в бытии нету брода, ногам бредущим уж нету дна… Смерти никогда нету в настоящем; она явилась — а тя уже нет! О радость! огнь молящий, палящий… на тыщу живых вопросов — один погибший ответ… Смерть, людие, достоверна, но только за порогом, потом, плачуще, больно, посмертно Господь подтвердит ея правду — Крестом… Твое бездыханное тело наблюдают другие; они поют над тобою псалмы; а душа не хотела уходить; молила, ответно пела: ищо час, ищо пять минут… Ты воззри на себя из будущего, человече! Хоть это тяжко так! Ты оттуда увидишь: простыни, свечи, подсунут иконку под недвижный кулак… Так человек осознаёт себя впервые: вот он младенчик, вот ножка ево, вот ручонка, ладонь… Таков первый обман, разрезы ево ножевые вдоль по душе… таков убийства чёрный огонь… Ты убил котенка, чижа, жука… утку на первой охоте… ты убил человека, чужого, родного… слыхал ево дикий стон… ты не Бог, а жизнь отнял… смерть, непостижная! ты над нами в полёте. Ты наше завтра, но тя даже мыслью не тронь. Што такое когда-нибудь? Што такое всегда? А никогда, оно што же такое? Я скажу вам так: будет будущее, ево никому нам не отвратить. Нас не будет, а Время будет, каковой слой ляжет, вам не открою; это смерть всё знает, когда исчезнуть, когда родиться и жить. Всё останется точно так же, людие, и когда нас здесь никово не будет. Всё так же будут сбиратися гости на праздник, так же сладкое пить вино. Так же будут стреляти друг в друга и целовати друг друга люди, глупые, злые, добрые, умные, смерти то все равно. Ну, а кровь? Кровь, святая, Господи, как густо, пламенно, дымно льётся, как вьётся рекой, как накрывает красным платом времена, сраженья, завьюжённы поля, кровь, она вся в человеках, и ты, человече смертный, кровавый такой, а кровь, она же бессмертна, сосудами битвы, любви и боли тя обымает, земля! В земле наша кровь. В земле наш пепел. В земле наши стоны. В земле наша смерть, а вот поди ж ты, является вдругорядь, и вновь забирает нас — у нас, у крови весёлого гона, у родильного стона, у веры во благодать! Смерть, она же приказ! Так назначено! За нея — заплачено! От нея, молчащей, отводят заплаканные глаза. Мы бились за жизнь! За жизнь хлебнули горячево! Мы жизни молились!.. а всё умирает, умирает даже старая бирюза… Умирает старая кровь, если новой в нея любовь не вливает. Умирают вещи, эоны, книги в старой телячьей коже… древние грозные льды… Смерть приходит однажды. Господи! Ты крикни нам, што она — живая! И, живую, ея попросить… ей взмолиться… штобы мимо — ея следы… Для чево ты, смерть? Какова ты на рожу? В лице твоё вот бы воззриться! Да не дашь ты. Ты в черном, монашьем, угольном апостольнике глухом. А мы путаем тя с кем-то забытым… за тебя принимаем чужие страшные лица… лица, лица, лица людские… улыбки, морщины и кровь… красного снега тяжелый ком… Кровь, сияньем течёт, неужели она с тобой, смертушка, в землю уходит… может, в небо красной хоругвью взмывает… надо всеми, над Мiромъ моим… кто там, кто там так горько плачет над телом моим при народе… не кручиньтесь… ведь смерти нет… глядите, лишь кровь и дым…
Только дым и кровь, только древнее, сирое Лобное место, а земля от смерти устала, до бессмертия ей далеко, она просто людская постель, просто Богово чёрное тесто, из которово можно вылепить нового Мiра лицо, о, а што есть смерть, мы никто никогда не знаем, мы стыдимся ея, закрываем лица ладонями, штобы она не узрела нас, ибо всякий из нас, это грешная, распоследняя жизнь, шалава шальная, вся бессовестно грешная, жаркая, бешеная, навек, на миг и на час, вся жестокая, вся в крови, в несбывшихся клятвах без краю, вся звенящая могучими латами, вся — потерянный перстень, дырявое решето, вся в слезах последней любви, о которой я, людие, ничево не знаю, о которой никогда ничево не узнает никто.
***
(взорванный дом: письмо с войны)
детство детство ты мой дом я голодна по тебе всегда всегда из развалин я слышу стон эй люди скорей сюда детство мы жили в погребе твоём мы заикались когда стрельба вот бы крепко обняться с мамой вдвоём а война стороною пройдёт слепа кто нас спасёт у нас есть Царь князь воевода опричный полк спрячусь от смерти в мышиный ларь там хранятся подзоры и шёлк там хранятся крупы и мёд хохот и слёзы хлеб и вода смерть летит недолёт перелёт сегодня живы навек навсегда детство ты просто дом на века в тебе живёт смерть и кровь горит детская кровь это народ кровь за кровь ничком и навзрыд кровь отдать за кого за что прямо в дом целит снаряд в мамино старое плачу пальто небо горит слёзы горят не виноват говорят никто что Рай обратился в Ад
(я: глаголю о Настоящем, откуда пришла)
Батюшко. Да ты послушай, слушай мя. Выслушай. Да кивай, коли не веришь; просто так кивай, для успокоенья моево. Я-то на твоём языке говорю, а ты на моём не смогаеши. Ну и што? А то. Язык, он один. Народ — един. Што вчера, што далёко, завтра. Туман обвяжет то дрожащее птичкой завтра, слоями, покровами, погостами наляжет, не рассмотришь. А кровь течёт, коли ранят иль убьют, на землю вытекает, всё такая ж красная, дымная, — живая.
Я притекла к тебе из своево Настоящево. Моё Настоящее — спросишь, каково оно? А рассказать — не смешно. Да в любом Времени, отче, смеху-то и нет; за всё держи ответ. Снег так же там густо, щекотно валит с небес. Так же волчьи молчит лес. Там так же стреляют, убивают, казнят. И так же — из гроба — не воротятся назад. А я тут пошто, спросишь, почему? Сама не ведаю; поторчу близ тя, отченька, да и уйду во тьму. Подхвачу, вон, в уголку перемётну суму. Давай нашепчу; што, и сама в толк не возьму.
Моё Настоящее. Костром горящее. Свечой дрожащее. Рыбка ледащая: уклейка, сорожка, на ушицу мясца крошка. Нету жира, навара. Настоящее, а будьто древнее, старое.
Ужасно моё Настоящее, отче. Тягостны дни; бесконечны ночи. То воюют народы, то ждут войны. Про войну снятся безумные сны. И мне снились. Я Бога просила: возьми от мя те сны, Боже, сделай милость. Очистил Он от черноты душу мою. Все светло вокруг стало! И я увидала — стою у пропасти на краю.
Што, вопрошаешь, как попросту мы живём? Да всё так же, как и нынче. Хлеб жуём да водицу пьём. Водица течёт изо ржавых труб. Горечь достигает дрожащих губ. За труд всё так же платят монету. Кто трудиться не может — бредёт с котомой вдоль по белу свету. Все люди, отченька, могут друг с дружкою балакать на большом расстояньи; лепечут в маленький ящичек разные словеса, а собеседник слышит твоё дыханье, ловит смешки твои либо всхлипы твои. Чует злобу, даже ежели врёшь ему о большой любви. Чует любовь, даже ежели сурово цедишь скупые слова: чувство, оно же как кровь, оно течёт, благо ты ищо жив, ищо жива.
А то ищо все людишки друг с другом вяжутся в одну-единую незримую Сеть. Тово нельзя ни услыхать, ни подглядеть! Чрез особые коробы железные в ту Сеть можно себя вплести. И навеки ты — узел ея; и весь Мiръ у тебя в горсти. Да всё, в тенётах ты навек. Ты журчишь водою. Ты с небес валишь, снег. Ты ловишь собою рыбу чужую, да не ты ловец. А кто? Господь Бог? И не Он, ни Сын, ни Отец. И ни Дух Святой. А Тот, Безымянный, што незримо и молча стоит за тобой.
Вместо слюды да бычьих пузырей у нас в окна вставлено стекло. Хрупко оно, бьётся легко, ударь скорей!.. — и вдребезги. Время ушло. Не вставишь заново, не глянешь ево на просвет. Было оно, Время, и вот не было — и нет. Руку посунь — вместо Времени — пустота. Та земля, да уже не та. Тот град, да уже не тот.
А мимо тя Тот, Молчаливый, Безымянный, идёт.
А то ищо нас, отченька, обуял глад и мор. К зениту взмыл отчаянный хор! Люди вопят! Люди блажат! Не хотят помирать! Неизлечим жуткий мор; несчётна ево дикая рать. Надвигается, нас косит громадной чёрной косой. Пред ним все двери закрой — а он влетит в окно! Неслышно хрипит: помрёте все всё равно… Мы сражаемся, отче! Мы умирать не хотим! Подымается к небу с земли улетающий дым. Это тела сжигают. Это воскуряют ладан святой. Живу одну жизнь, а она уж другая… иконы мvром плачут во храмовой тьме густой…
На улицах мёртвые лежат. На скорбных одрах возлежат тела. Эта хворь неизбывна. Нам теперь с нею жить, вот и все дела. Я тово не хотела тебе, батюшко, говорить. Да видно, так надо; ведь и у тя, отченька, попросят: пить! Ведь и ты, отче, у ближнево однажды попросишь: пить… Ты ж не смерть, ты косою не косишь, ты живую, травную, кровную вяжешь нить…
А я там, в моём Настоящем, иду по смрадным улицам, трупов всюду тьмущая тьма, и как это я, отче, до сих пор не сошла с ума, я не знаю, как эта зараза зовётся, может, антонов огонь, может, иная чума, да только Мiръ в Адов бочонок чёрным млеком щедро льётся, и глотаем мы ужас и скорбь задарма… И у мя в руках, отче, знаешь, пузырёк малый, прозрачный такой, как сосулька весенняя… еле держу ево ослабелой рукой… и из того пузырька стеклянново, будто иерей — мvром иль на соборованьи елеем, помазую на земле лежащих — и мертвецов, и живых… к ним росомахой подбирается тьма… ищо дышащих… снадобья не жалея… то масло розы, и цветы я сбирала сама… И они разлепляют глаза свои, раскрывают уста на последний, пьянящий земной аромат — жизнь, огромная роза, пылающа и свята, память лишь о тебе, Райский Сад!
Да, отче… земля — Райский Сад… мы ея опоганили сами… сами под виселицу себя подвели… сами себя бросили в пламя, растоптали коркою хлеба в пыли… Сами… всё сами… а может, Настоящево нету… может, я живу, отче, здесь и сейчас, и к тебе прижимаюсь голой планетой… яко Луна к Земле… навек ли, на час…
Што, спросишь, как же мы выкарабкалися из той оглушительной хвори?! Как смогли ея победить?! А никак… лишь умирать на просторе… лишь хрипеть напоследок это вечное: пить!.. — то ль врачу-исцелися-сам, то ли прохожему, в лохмотьях, язвах и кашле, то ли любви единственной, што твои руки крепко сжимает в своих… штоб тебе идти по дороге смерти было не больно, не страшно… штобы ты мыслил: средь мёртвых тако же хорошо и семейно, как средь живых…
Тихо, тихо… Не утешай, не надо… Рассказ мой окончен простой… понял ли ты што иль нет, не ведаю… мне и молчанье — награда… мне и рука в руке — невыносимый свет… Я просто птаха малая, зачем-то из Настоящево в моё Прошлое прилетела… в твоё, отченька, Настоящее… Времени нет, ну поверь мне, поверь, поверь… Я всево лишь дух, никакое не тело, я всево лишь в твоё Грядущее открытая дверь…
А, ты про Грядущее?.. изволь, давай туда вместе заглянем. А ты знаешь ли, отче, што два-то у нас Грядущего, два! Как два глаза. Две руки. Две ноги. У двух образов Будущее помянем: у Распятья и Богородицы, што Заступницею Пречистой над Мiромъ жива.
Возьми мя крепко за руку, отче. Только не отпускай руку. Слышишь! ты!.. только руку!.. руку, руку не отпускай! Мы увидим сначала одну, на пол-Мiра, последнюю муку. А потом оба узрим Грядущий, возвращённый наш Рай.
Первое Будущее — ох, не приходило бы оно лучше. Лучше б сдохло оно, метко простреленное, насквозь. Да охотники мы неважнецкие. Положились на случай, на извечное наше, ленивое наше авось.
Видишь выжженную равнину?.. снега иль пески то белые… ветер их перевивает, в кольца свивает, в петли, круги… До погибшего Мiра, отченька, никому во Вселенной нет дела. Все погибли. Все умерли. Все убиты — друзья и враги. Это ужас последней войны, невероятной, а ведь настала. Расстилается тьма, безлюдье, белизна, пустота. Расстилается — без человека — Мiръ. А Бога там нет?.. только Смерти жало?.. значит, ея победа… выходит, ея торжество… без Господа… без Креста…
Отвернись… не гляди… очи выглядишь, вытекут с горя. Повернись в инакую сторону. Мимо смерти смотри. Видишь, видишь?.. на невиданном, на громадном просторе Землю, звёзды, Солнце, Луну зришь снаружи и изнутри. Это, отченька, наше Грядущее… я ж говорю, иное… эка Космос великий играет нам всеми гранями!.. инда алмаз… весь цветной, рубин, малахит, лазурит, шалью вспыхивает ледяною… видишь Ангела?.. он летит над нами… здесь и сейчас… Улыбается Ангел, тихо поёт!.. на дудочке нежной играет… утомлённый дорогою дальней, крылатой, по небесам… он чудесный вестник бесслёзного, звёздного Рая, он нам — музыка, мvром святым льющаяся по щекам, раменам, по устам… Видишь счастье, Грядущее?.. не сомневайся, оно так и будет… а первое Будущее — это всё понарошку… это всё лишь игра… будет свет, радуга, музыка, мандарины и яблоки на серебряном блюде… верьте, люди, о люди… и так будет с тех пор сегодня, завтра, вчера… Будет радость, о ней ты, отче, всю жизнь и молился! За отцами, святителями, преподобными, равноапостольными всё: «Радуйся!..» — повторял… Ты лети туда… только в радости не забудь дорогие могилы… только в радости исповедуй веру родную, начало начал…
Ну, а я, отченька… разреши, я пойду. А куда, и не спрашивай. Содрогнёшься, узнаешь коль. Ужаснёшься… захочешь со мной… Напоследок дай испить вина. Дай кусочек свежево брашна. Загляни мне в лице, седой, озари улыбкою молодой. Поцелуй: устами прикоснись осторожно к бледному, ледяному, потному, светлому лбу моему. Всё, што было меж нами, это свиданье, немыслимо, невозможно. А теперь я уйду во свет. А тебе помстится — во тьму.
Свет и тьма. Тьма и свет. Равновелико похожи. Равносильно насущные. Равномощно обнимут нас. Обними и ты мя, отченька, до кости, до рыданья, до дрожи. Пока живы мы. Пока ясный огонь не угас.

(протопоп и боярыня Морозова)
Сколь народищу на улке! Толпятся; дымятся. Я тулуп нашвырнул на плечи, на крыльцо вынесся, гляжу. Валят и валят! И остановки нету. Я за всеми побёг. Вечная зимонька за плечи обымает, в лице плюёт снегом мокрым, тяжёлым. Бегу, и на бегу лице от мокрети отираю голой ладонью. А потом вдруг мороз ударил, под ногами лёд голый, и снег в пуржицу обратилси. Ух!.. бегу-мчуся, да встал инда вкопанный. Потому што все стоят, замерли. Наблюдают. Я через головы всех воззрился!
…да и понял живёхонько, што к чему.
Болярыню мою, свет-любимейшую, Феодосью Прокопьевну, в розвальнях везли.
Куды? На суд? Опосля суда — приговор исполняти?
Каково я здеся-то оказалси? Я ж пребываю в дальних землях Северных, в наказании подземельном, во гладе и хладе… Ничево не понимал, однако всё на земле происходило, и на снежочке я стоял сапогами, на скрипучем, а розвальни с болярынею — мимо мя, грешново, неслися.
Я себе так шепнул: гляди, протопоп, да запоминай всё до капельки, ибо ты сподобился; потом разберёсси — и в себе грешном, и во Времени, и во приговоре, и во чудесех. Девица в расшитом золотной нитью, шерстяном тёплом плате, со громадным сапфиром-перстнем на тонюсеньком пальчушке безымянном — рядом стоит. Ручонки ко груди прижала: молится. Крестится, зрю, двуперстием. Да разве старую веру изыдеши! Разве ж прогониши ея батогами! Ни выжжешь кострищем! Ни обезглавишь секирою! Ты ея в яму бросишь — с голоду помрёт, а воскреснет она.
Везут! Везут, Господи… Укрепи ея, поддержи ея… Любимицу мою, ученицу смиренну… Сколь хлебов она страждущим раздала! Сколь безродных, голодных накормила! И хлебом, и рыбой, и молитвой, и любовью. Скольких обымала-перекрещивала! На ночлег устраивала путников; обнищалым — кров давала; безверных — верою укрепляла; близких схоронивших и во скорбях пребывающих — надеждою на грядущее изумляла. Всё она, болярыня моя! И я ли ея тому учил! Не Господь ли Сам учил ея тому! Не Господь ли Бог наш Сам ея наставлял!
Мимо, мимо розвальни… На снегу сидит, скрючившися, ноги под себя поджавши, в отрепьях и чугунных цепях, железных змеях, юродивый Христа ради. Ах, юрод святой, давай-ко, помолись за мою страдалицу! И бродяга блаженный, будьто услыхал мя, на болярыню в санях воззрилси, длань тощую подъял и ея широко перекрестил. Двуперстием! Господи, возлюби, сохрани! Возлюбленная дщерь Твоя за Тебя нынче — на смерть идёт!
И глядел я ясно вперёд себя, и нашел глазами в санях — лице ея.
…И розвальни! И снег, голуба, липнет сапфирами — к перстам… Гудит жерло толпы. А в горле — хрипнет: “Исуса — не предам”. Как зимний щит, над нею снег вознёсся — и дышит, и валит. Телега впереди — страшны колеса. В санях — лицо горит. Орут проклятья! И встает, немая, над полозом саней — болярыня, двуперстье воздымая днесь: до скончанья дней. Все, кто вопит, кто брызгает слюною, — сгниют в земле, умрут… Так, звери, што ж тропою ледяною везёте вы на суд ту, што в огонь переплавляла речи! и мысли! и слова! и ругань вашу! што была Предтечей, звездою Покрова! Одна, в снегах Исуса защищая, по-старому крестясь, среди скелетов пела ты, живая, горячий Осмоглас! Везут на смерть. И синий снег струится на рясу, на персты, на пятки сбитенщиков, лбы стрельцов, на лица монашек, чьи черты мерцают ландышем, качаются ольхою и тают, как свеча, — гляди, толпа, мехами снег укроет иссохшие плеча!
Снег бьёт из пушек! стелется дорогой с небес — отвес — на руку, исхудавшую убого — с перстнями?!.. без?!.. — так льётся синью, мглой, молочной сластью в солому на санях… Худая пигалица, што же Божьей властью ты не в венце-огнях, а на соломе, ржавой да вонючей, в чугунных кандалах, — и наползает золотою тучей собора жгучий страх?!.. И ты одна, болярыня Федосья Морозова — в Мiру в палачьих розвальнях — пребудешь вечно гостья у Бога на пиру! Затем, што ты Завет Его читала всей кровью — до конца. Што толкованьем-грязью не марала чистейшего Лица. Затем, што, строго соблюдя обряды, молитвы и посты, просфоре чёрствой ты бывала рада, смеялась громко ты! Затем, што мужа своего любила. И синий снег струился так над женскою могилой из-под мужицких век. И в той толпе, где рыбника два пьяных ломают воблу — в пол-руки!.. — вы, розвальни, катитесь неустанно, жемчужный снег, теки, стекай на веки, волосы, на щеки всем самоцветом слёз — ведь будет яма; небосвод высокий; под рясою — Христос.
И, высохшая, косточки да кожа, от голода светясь, своей фамилией, холодною до дрожи, уже в бреду гордясь, прося охранника лишь корочку, лишь кроху ей в яму скинуть, в прах, внезапно встанет ослепительным сполохом — в погибельных мирах. И отшатнутся мужички в шубёнках драных, ладонью заслоня глаза, сочащиеся кровью, будто раны, от вольного огня, от вставшего из трещины кострища — ввысь! до Чагирь-Звезды!.. — из сердца бабы — эвон, Бог не взыщет, во рву лежащей, сгибнувшей без пищи, без хлеба и воды.
Горит, ревёт, гудит седое пламя. Стоит, зажмурясь, тать. Но огнь — он меж перстами, меж устами. Ево не затоптать. Из ямы вверх отвесно бьёт! А с неба, наперерез ему, светлей любви, теплей и слаще хлеба, снег — в яму и тюрьму, на розвальни… на рыбу в мешковине… на попика в парче… Снег, как молитва об Отце и Сыне, как птица — на плече… Как поцелуй… как нежный, неутешный степной волчицы вой… Струится снег, твой белый нимб безгрешный, расшитый саван твой, твоя развышитая сканью плащаница, где: лёд ручья, Распятье над бугром…
…И — катят розвальни. И — лица, лица, лица засыпаны сребром.
…и я стоял и думал: а ведь всё это ты, проклятый Патриарх, всё ты и наделал. Полстраны, пол-Расеи секирами вспахал, кровью засеял! А што из крови-то вырастет? Кровь и вырастет, оно понятно. Из ненависти вымахнет ненависть. Да до небушка. Дымы повалят, пули засвистят… Покосился. В толпе рядышком со мною, грешным, странник стоял. Сколь я их, горемычных, на веку повидал. На суглобой спинище старый, годами трёпанный, молью траченный, с чужово плеча кафтан; от дождей и снегов весь повыцвел, сам цветом дождя сделалси выкрашен. А он на мои порты зыркает. Порты залатаны, Настасья залатала со тщанием, со любовию. А я стою, в раздумья тяжкое погружённый. Патриарх, мыслю! Ты человек, властью облеченный, яко Царь. Ты да Царь — вот тож двуперстие. И вся Русь, да, вся, тем двуперстием должна бы покреститися! А што взамен тово?!
Везут… везут мою дитятку духовную… везут мою цариценьку в клобуке, чёрную мою ворону-галку, монашеньку… в одеждах цвета земли она, и на соломе, в розвальни набросанной, прямо, гордо сидит, сани туды-сюды качаются, а она… она не покачнётся… руку воздымает, высоко подымает, выше главы своея… и — вижу — двуперстие из пальцев исхудалых складывает… и ищо выше, выше тянет… вот же оно, вот — Исусово крестное знамение! Исусов знаменный роспев! Чёрная воронушка моя, монашенька моя Христова, дщерь моя исповедальная! Ведь на смертушку катишь! Ведь розвальни те толстопятые, полозья — брёвна стоеросовые, тя везут — ах, знаешь ли, куда?! на што?..
…и тут болярыня моя на мя — свои широкие, будьто лопатою выкопанные на метельном лице тёмныя очи — перевела.
…узнала. Она — мя — узнала!
Споведала!
Мне почудилось: власы на главе ея, под монашеским полночным апостольником, встали дыбом. Брови собольи на лоб поползли. Щеки осунулись. Всё лице мукой смертною исказилося; словно бы она уж в яме сидела казнящей, и вверх, на последний свет свой Божий, из ямины — глядела, и со светом Божиим — прощаласи.
А длань с воздетым двуперстием — не опустила.
Так и сидела с подъятой рукою, толпу плачущую, ропщущую крестя.
Побледнела сильно. Цвета снега сделалось ея лице. А снег повалил гуще, гуще, и вечер наваливался, катился синею бочкою из-за сараев и древняных сторожевых башен, и всё синевою обнималось и лазурью мрачной, предночною вспыхивало, вспыхнули и глаза болярыни, на мя обращённые; я видал, она разлепила пересохшие губы, мне чудилось, они кровью запеклись, и вытолкнула из груди своея хриплый стон: Аввакуме!.. отченька!
— Аввакуме!.. отченька…
Мне причудилось, вся могучая толпа, што на ветру да на снегу упрямо колыхалась, взорами болярыню провождала, тот возглас сирый, тот стон прощальный услыхала. Я стал ушами всех. Глазами всех. Я внезапно стал всею толпой. Таковое чувство может посетить живущего человека; оно сродни всеобщей вере; оно нисходит на тя в соборе, в совместном мощном пении, в любви, когда ты и супруга твоя нежно и крепко обымаются на общем ложе, во звёздной морозной ночи, а изба жарко, томно натоплена, для радости и зачатия. Я стал всеми людьми. Каждым человеком во толпе стал я. Снегом под сапогом странника. Чугунными веригами на голом теле блаженного. Сапфировым перстеньком на тоненьком пальчике боярышни, што таково жарко, безысходно молилася за безвинно на смерть осуждённую. Секирой на плече, на бархатном, цвета болота, кафтане боярсково стражника. Я стал всеми очами и всеми ступнями; всею утварью, мастерами изделанную, и всем ветром-воздухом; всеми голосами, ропотом, вскриками и бормотаньем, и всею тишиною, падающую с небес тяжёлым Царским, белым, прозрачным, кружевным пологом. Я стал — всем.
Всем сущим.
…не сознавал, што же такое со мною.
…чуял токмо: таковое же и Господь испытывал, когда заколотили гвозди Ему в руки и ноги Ево и вздёрнули Крест Ево ввысь, там, на Лысой горе.
…и блазнилось мне, што вся толпа эта, розвальни моей болярыни слёзными зрачками вдаль провожающая, всё это толпища Голгофы, и все мы стоим не на улочке града заснеженнова, а на истинной Голгофе Господней, на Лобном месте Господа нашего Исуса Христа, и там, за пеленою снега, над градом многолюдным, неистовым, муравейным, над толпою, над санями, везущими мою болярыню на смерть, над крышами и крестами храмов Божиих, над птицами, галками, воронами, снегирями и свиристелями, над безумными воробьями и Ангельскими голубями, то и дело вспархивающими в набухшее снегами небо, встают эти великие, огромадные Три Креста, и на одном, в самой средине, в средоточии Мiра видимово и невидимово, висит-раскинулся, тяжкими, яко жизнь вся, гвоздями приколочен, Христос, а праворучь и леворучь Ево — два креста помене: и там два человека тож распяты, и оба головы к Спасителю повернули, и взирают на Нево полными невылитых слёз глазами. Мученики! Даром што разбойники! А может, они покаялись! Может, пред казнию у них исповедь священник принял!
Да што там: сам Господь на Кресте — их, татей, простил!
И вот над болярынею моею, в санях катящейся, и стоят-нависают над крышами, башнями, крепостными стенами, нищими избёнками Три Креста, и высочайший — Крест Господень, и она, задирая к Нему главу свою, облачённую в угольный мрачный плат, выкрикивает, и слышу я напоследок, прежде чем розвальням во клубящейся метелице навек исчезнуть, этот ея пронзительный, высоко летящий крик:
— Помяни мя, Господи, во Царствии Твоём!..
И тогда я не знал, не ведал, што со мною сотворилося. Вскинулся весь, будто птицею я стал, тварью пернатой, и все перья на теле моём хладно, могуче и празднично подъялися, и окутался я облаком то ли вьюги, то ли дыма, то ль воскурений снежных, небесных. Ангелом на миг я стал. Преисподню на мгновенье стал зрети. Весь Мiръ, инда яблоко, стал держати на ладони. И сам — в тот весь Мiръ разом обратилси.
И я, сиречь весь Мiръ, так болярыне моей возлюбленной крикнул, глотку надрывая, изо всех последних силёнок:
— Нынче же будеши со Мною в Раю!..
И это раздалось, раскатилося по всей белой снежной земле, надо всей колышущейся толпою:
— Ю-у-у-у-у-у!.. ю-у-у-у-у-у…
И не устыдился я, не засмущался, што я на глас Господа Бога нашево свой глас положил; я ведал-знал, што именно так и надобно крикнуть.
Другово прощанья нам с возлюбленной дщерью моей было не дано.
А вот таковое — назначено.
Имеющий уши — да слышит. Имеющий душу — да простит.
Прости, спаси и сохрани мя, Господи.
…так бормотал я, уходя со снежной, тысячью ног притоптанной площади, с когтя-загогулины птичьей улицы, уходящей во смерть и в никуда, от следа дико визжащего санного полоза, а из розвальней у болярыни свешивалась медвежья полсть, тепла была, да вытерта до дыр, насквозь, старая медвежья шкура, да я согласен был, штобы с мя шкуру содрали и болярыне моей на дно розвальней — бросили-положили: штоб тепло ей было, любимице моей, штоб закрыласи она мною от ветра и острой снеговой крупки, што посекает голые руки и лицо, оставляя на них ямки, выбоины, оспины; так шептал я, и шёпот мой заглушали мои шаги, я тяжело ступал по снегу, скрип-скрип, хруп-хруп, уходил от прощенья, прощанья, от ненастного виденья, от метельного колыханья, от памяти и забвенья, от рода, племени и званья, от всего и вся по именам называнья, и я старался, идя, всё забыть, всё простить, што было и чево не было; я шёл и молился, штобы болярыне моей в ямину каждый день горбушку хлеба бросали и тем жизнь ея продлевали; а потом стал молиться так: Господи, не дай ей мучиться черезчур длинно, возьми у нея ея жизнь поскорей, ибо пришла она к Тебе с повинной! И люди текли, бежали, катились, летели, ковыляли округ мя, за мной, впереди и рядом; и не было сил провожати их взглядом; я их только душою чуял, только телом тела их жаркие, тёплые, старые, юные видел, шёл вслепую, напропалую, ко себе самому в могучей толпе наконец приидя, шёл один, а как будьто все разом, шёл один, али тьмой тем, уж не ведал, а на меня косил некто Молчаливый, Безымянный волчьим глазом, ступал за мною по следу, а метель вихрилась, била ладонями мя в лицо завируха, и шептал я бессвязно, Господи, помоги, сделай милость, и улыбался, и плакал тихо и глухо.
***
(девочка и матерь ея: письмо с войны)
Мама, мама, я просто малое дитя твоё Я хочу чтобы на руки хочу чтобы крепко к тёплой груди Я всё знаю мама про быльё и про небытиё А про новую жизнь ты мне сама расскажи под снега-дожди Вон они за окном стеною и сном всё встают и встают Мама мама ты знаешь когда вырасту я хочу Стать для путника проводницей там где берег крут Там где боль и боль умирают плечом к плечу Там где мир и мир сшиты крепко чёрной войной Этой чёрной заплаты с атласа белого не содрать Мне всё кажется это не с тобой не со мной Эта жизнь ли смерть молитва ложь благодать Всё наврали нам ты от удара вчера не умрёшь И меня не застрелят завтра ни наводкою ни из-за угла Мама мама мир на малую меня так похож А война она же закончится и все дела А ты там на том свете вяжи всё так же вяжи То берет то кофту то шарфик то штопай бельё То на кухне точилкой точи тупые ножи А я знаешь завтра воскресну во имя твоё
***
(Царь Космос и Аввакум)
Ах, сколько ж мя били. Сколь шпыняли. Гнали, лупили по спине древками секир ли, копий. Я-то желал вид принять холопий, да не мог, не мог, душа не смогала! Вот болярыню мою на смертушку в санях увезли. И што? Разве ж я ея забуду? Да никогда, вот во веки веков, вот клянуся чем хошь, жизнию ли, гибелью, мне нынче всё едино! И розгами солёными мя охаживали. И плетью-девятихвосткой донимали. За што, за што люди ненавидят человека, брата их, друженьку их? За што бичуют, пытают? А кто разъяснит! Вот на казнь лютую мя поволокут; да кто ж по мне заплачет? Разве родные-родненькие? Ах, жёнка! разбитая маслёнка… квашена капуста… без тя, жёнка, ох, на небеси будет пусто, таково пусто…
Да, людие… зло, мерзкое зло всё живёт на земле, таково живуче оно, а мы зовём к себе смертушку, когда уж невмоготу нам, когда не сдюживаем жизнёшку… непознаваема смерть, страшно, страшно человеку её дикий каменный лик зрети. Вот балакаю — каменный; а может статься, живая она! И морда у нея волчья, и огнь палящий, краснее крови, заместо волос с главы ея на костлявые плечи струится. А ведь только зреть мы ея можем, только глядети в ея рожу… а беседовати с нею никак не выйдет, безмолвна она, немая навек, и мы онемеваем, на нея глядючи, она и нас немтырями, пред ней смущёнными, сотворяет. И покаяться-то мы во смерти перед Богом, будьто во грехе каковом страшнейшем, никогда не можем, ибо для всех уход в потайные, паутинные нети назначен: што для каждой малой букашки-стрекозки, што для царя Грознаго и Великаго. Покаяние, людие… что есть покаяние на земле? Покаяния отверзи ми двери… покаяние паче гордости… покаяние превыше любви человеческой… а превыше ли оно любви, ответствуй, Боже, Господи Боже мой! А Бог-то, Бог наш каялся ли когда или всё молчал… сердце на замок… уста закрывши, зубы сцепивши… в Гефсиманском саду рыдал наш Господь, умолял Отца: отведи, отбери от Мя чашу сию!.. да на реках Вавилонских, да, на реках Вавилонских, на Тигре да на Евфрате, люди из реки зачерпывали да и пили счастье из горсти… а их побивали мечами, камнями, копьями, продавали за грош-копейку, предавали… Моисейскую песнь великую поют во храмах во время неизреченное, во неделю о Блудном сыне… я тоже пою… и я, грешный, пел… аз есмь многогрешный раб Божий Вакушка… сколько раз глотку свою надрывал: парастасы и кондаки, ирмосы, тропари, полиелеи и стихиры, апостоли, мученицы и пророцы, святители, преподобные, равноапостольные, страстотерпцы — все вокруг меня частоколом густым стояли и все мне в лице моё шептали: Рая на земле твоей, батюшко Аввакуме, вовеки не случится; земля есть, а тебя, возможно, уже и нет, иди ты за Богородицей, легчайшими стопами Она шагает по облакам, лазурные одежды за Ея спиною по ветру вьются, иди за Богом своим; это так суждено тебе, метели насквозь, вьюге поперёк, пройди за Ево великим ходом иным путём, своею дорогой… свою дерзкую наготу только не забудь прикрыти. Не забудь стыдиться тово, чево надобно на земле стыдиться, и не взирай туда, куда заказано глядеть, и не делай тово, што воспрещено тебе делать от веку; иди торжествующе и радостно, на весь Мiръ крича песню, прямо в Рай, и рубищем, подаренным мимохожим каликой, закрывай тело голое своё; так телеса закрывал свои праотец наш Адам… часто, часто люди себя отроками вспоминают, слепые от последнего счастья оченьки свои горе, вверх, всё выше и выше подымают; а там, в выси, синие льдины, чёрные, дымные грозовые небеса… так подниму глаза свои, давай, воплю, прямо гляди на святое, не отврати лица твоево от раки Твоея, Господи Боже мой… величит душа моя Господа, и всюду Царь Давыд, со всех страниц, со всех златых алтарей ево ясных глаз, ево царской брады и унизанных перстнями пальцев — тихое сияние… песни ему каждый день готов петь; пускай из глотки моея натруженной сия песня излетает, праздничная, солнечная, бесподобно на весь мир распахнутая… Знаете, людие, есть такая икона во храме православном: прозывается Царь Космос. Вот вы вопросите мя, што за Царь таковский и почему нерусским, не нашим имячком зовётся. Царь Космос. Чёрный, густой, дегтярный плат, смоляной хоругви наподобие, и смотрит на нас изо тьмы той предвечной, из угольной Вселенския мрачности человек да Царь; не Царь Алексей Михайлыч, а Царь Небесный, нет, што я каково жалкое словцо изронил, нет! Надмирный, Превышенебесный; душа не ведает, како ево восхвалити, не держит слов за пазухой таких душа живая, и я не храню, а только в лик Ево золотой гляжу, ясный, светлый, круглый, инда Солнце али Луна; латунный свет лучами во все стороны от Нево исходит, а за Ним-то чернота, маята, беспросветный мрак, безобразная, довременная тьма: златой радостный праздник на весь Мiръ празднует, нам, жалким людям, улыбается, а на голове Ево, Царя тово, корона, будьто смеющаяся пасть китайскаво дракона; зубцы, яко чудищ языки жадные, яко лопасти али лепестки громадной Райской лилии, наружу выворачиваются… бронзовые лопухи, огромные листья невероятного, неземного древа, златые, шире санново пути, разлапистые ладони, и все сплошь усажены драгоценными каменьями, аж зрак робкий свеченье то ножом режет, и глазам больно, и стою противу той иконы и жмурюся, а опосля опять очи мои жалкие, смертные, отверзаются, и Царь Космос глядит мне в душонку бедную, Время халву свою астраханскую и виноград свой персидский звездами рассыпает предо мной, с белой, снеговой бороды Царя Космоса они сыплются; чую, грехи пора исповедать мои, чую, долги пора возвращать мои, и зрю, уста Ево снова, яко рыбы подо льдом, медленно шевелятся, и хочет Царь мне слово единое вымолвить, слово самоцветное сказать, да неизреченное то слово не излетает из уст Ево: навеки онемел, небушко Ево безъязыким слепило… а внутри себя слухом тайным, внутренним, вроде бы и слышу голос Ево сильный-твердый и вместе нежный, глухой и вместе звонкий, грозный и вместе милующий: батюшко Аввакуме!.. што замер, на мя глядючи? Да весь видимый Космос есть предвечный Царь пред тобою!.. но не казню тя вовеки, а лишь помилую, во смерти помилую, во пытке поддержу, на плахе обласкаю, на костре обниму и утешу… я надо всеми, и Христос, Бог Мой, Сын Мой, Сынок Мой единородный, Сынок Мой возлюбленный, со Мною, и все, людие, вы дети Мои: под чёрными-непокорными, синими-всесильными, звёздными-грозными желаниями моими толчётесь-грудитесь, ко Мне, к ладонями-коленям Моим всё липнете, без Меня жить да умирать никак не пообвыкнете; земной Царь тебя предаст, а я, я, Царь Космос всенебесный, многосердый, всетелесный, никогда не предам. Так стоял я, слушал Ево, сердчишко моё слабое, смертное замирало, и шептал я Ему в ответ, и рот вздрагивал мой, а глотка ни звука не издавала; дрожал я весь, мелкой дрожью, яко сыпью болезной, покрывался, дождевой холод объял мя, инда ливень бил-хлестал мя изнутри; а сердце под рёбрами костром рыбацким, алым в ночи, дико горело. Итак, шептал я Царю Космосу, грешныя стопы моя направи по словеси Твоему, так в Сибири поют, я и Тебе это пою: во Царствии Твоём помяни мя, грешного, Господи, помяни нас всех… Господи, помощник и покровитель, бысть мне во спасение… все кондаки разом вспоминал, все ирмосы, и сразу Царю Космосу те знамёна, любимые, громко спел, возопил на весь белый свет, а голоса-то нет, есть только мысли да сердца биенье неутешное, в небеса возносящиеся: с нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог, да, с нами, с нами, счастливцами… а лице всё моё залито горючими слезами, горечь и соль на губах, вздрагивают уста мои недостойные, да словно в зерцале чёрной яшмы, дрожат уста Царя Космоса на иконе, и оба мы вместе, друг в дружку глядимси.
И я всё шепчу, сердцем шепчу: Господи Сил, с нами буди.