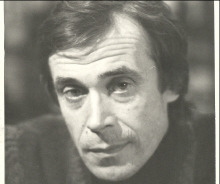Николай ТРОПНИКОВ
Санкт-Петербург

ВСТРЕЧИ
Рассказ
Автобус мягко остановился, словно завяз в плотной деревенской тишине. И я не вышел, а как-то выпал из него, оступившись с подножки, и не спеша огляделся, не ожидая встречи. Но откуда-то из сугробов, виднеясь только головой, появилась мать. Вышла вся: маленькая, в фуфайке, валенках, в платке, — и сразу, без сомнений, будто знала, что я приеду (или просто каждый день выходила на остановку), пошла навстречу. И я растерялся, испугавшись расспросов, и уж подумал мгновенно — если вдруг спросит, совру: «Все хорошо…» А она только взглянула, подходя, потом ткнулась в меня лицом, посмотрела, рассмеялась со слезами, и я сказал:
— Ничего не случилось. Просто отпуск неожиданно навалили…
— Отпуск? Ну, слава богу. А я подумала, забродил чего…
И мы, сразу обо всем уговорившись, пошли к дому. Она как в детстве, будто за руку, вела меня и как бы поторапливала, чтобы чем-то быстрей обрадовать. Потом сказала:
— Вон, вишь? Весь уже навострился,— и я, вспомнив, признался:
— Ах, да! Всю дорогу то и дело думал о нем…
— Вам собаки-то дороже чего хошь, — без обиды проворчала мать, имея в виду и отца, а я еще от ограды позвал:
— Шарик!
А он сидел на цепи, на высоком, утоптанном лапами сугробе, как на большом яйце, весь собранный и возбужденный, и не решаясь, истекал глазами на меня, дрожал тонкой шерстью, как от холода, и, казалось, весь извивался от вопросов: «Кто? как? что делать? Не видел, не знаю. А запах вроде похож, и она с ним…» Насторожился: отскочить? убежать?
Приближаясь к нему, и я волновался по-своему, тоже рвался и ревновал: «Признает ли? Учует ли? Бросится ли?» Похож на прежнего Шарика, только на спине две черные заплаты, а тот был весь рыже-белый.
— Шарик!..
И он подался ко мне, не сдвигаясь с места, но я видел, как двинулось в нем все. Не слыша своего голоса, я снова позвал:
— Шарик, — чего-то испугался и быстрей снова: — Ша-а-арик,— и потянулся в его сторону рукой — вот сейчас коснусь.
И он дернулся одновременно вперед-назад, припал на передние лапы, но все-таки отскочил, будто в последний момент чему-то не поверил, и тогда мать сказала:
— Да, Шарик, ты куда? Вот, дитятко, не признал. Не можешь догадаться-то. Не виделись никогда… Да ты понюхай шибче,— и пододвинулась к нему, а Шарик отскочил и от нее и, разбегаясь глазами между нами, сел, не зная, что делать: догадки, боязнь, желание, запрет и тяга будто разрывали его,— так тяжко было разбираться, словно мгновенно постигнуть весь мир, едва родившись. И он, готовый расплакаться, тоненько заскулил.
— Шарик? Шаричек ты мой,— взмолился я, надеясь каким-то чудом убедить его. — Ну, догадайся. Вспомни. Знаешь, как я хотел тебя увидеть. Меня же все собаки понимают, я же вас всех чувствую. Ну, понимаешь?
Шарик взвыл, отбежав, и заметался по лбу сугроба, а я потянулся к нему с кусочком пряника, случайно оказавшимся у матери в кармане, а потом за этот же пряник взялась рукой она, и мы оба, причитая, лаская и убеждая голосом, потянулись к нему. И он, что-то перебарывая в себе, мучаясь и ликуя, чуть осмелел и двинулся навстречу, вытягивая морду, нюхом прокладывая путь. Вздрагивающий нос скользнул по прянику, по руке матери, потом и я почувствовал его прикосновение, а он нюхнул мать и быстро меня, снова мать и опять меня — руку, рукав, — и по воздуху, наводя нос на всего меня, как локатор, визгнул, вильнул, на всякий случай еще раз нюхнул мать. Она убрала свою руку от пряника, он на мгновение будто опять испугался и хотел отскочить, но уже какая-то уверенность задержала его, и он осторожно взял кусочек, съел, облизнулся.
— Шарик, Шаричек, — сказал я, уже гладя его за ушами, и он вдруг взвился, скачком бросил мне на грудь тяжелые лапы гончака и, будто еще смущаясь своего нового чувства, лизнул меня в подбородок. Свалил голову набок и сконфузился, как подросток…
— Хо-о! А я сижу и думаю: что за разговор на улице?..
Отец вышел во двор из мастерской, пристроенной в торец хлева. Худой, щетинистый, ростом с ребенка. «А глаза… Как у старой опытной собаки», — метнулось во мне. Он ткнул в сугроб саперную лопатку, с которой вышел из дверей, и захромал ко мне, морща лицо. Обнял, как всегда чего-то стесняясь.
— А я в отпуск. Давно зимы настоящей не видел. По снегу истосковался…
— А в аккурат приехал,— ответил отец, имея в виду что-то другое, и рассмеялся. — Я вчера хотел за это дело-то взяться, да кто-то как подсказал: «Обожди, ужо, Ивана». — Прикурил, сунув папиросу в пригоршню. — Ись-то хошь?
— Нет, а что? — А вот иди переоболокайся. Тогда сразу и догадаешься… А на зайца пойдем. Вот чего.
«Ничего вроде бы не изменилось», — то ли радостно, то ли грустно думал я, оглядывая избу, ожидая, пока мать подбирала мне валенки, фуфайку, штаны.
Я переоделся, подпоясался, как мужичок, и сразу стал другим человеком, будто никуда не уезжал и никогда не видел никаких городов и стран. Будто просто до этого носил другую одежду.
— Калоши на валенки-то надень, — вслед напомнила мать. — Там, в сеннике…
И, немного волнуясь и даже робея, как перед дверью одинокой лесной избушки или чердаком старинного дома, вошел я внутрь дощатой пристройки хлева. Желто светил пузырек лампочки под потолком, вправо, за вторыми дверями, глухо, как из-под земли, хрюкнуло, засопело, а влево, в глубине сарая, — какие-то шорохи, возня и в то же время явно глубокая тишина и скрытность. И вроде что-то мелькает, и никого не видно, но кто-то есть, только таится, и воздух насыщен каким-то неустанным колдовством, будто вокруг обитают духи — летают, шепчутся и что-то стригут, стригут. Выглядывают, как из-за угла, подмаргивают и разглядывают меня, даже обсуждают, а я никого не вижу. Слышу только — отец кряхтит…
Я стоял, бросаясь взглядом на каждый шорох, но ловил только загадочные мельканья. Лишь привыкнув к освещению, начал различать в дырках что-то белое, а потом — длинные, как ивовые листья, уши и стригущие мордочки. Вдруг, попав под луч света, сразу в нескольких местах вспыхнули острые розовые кружочки, и один погас. Но вспыхнуло в другой дырке и, косясь на меня, зашуршало чем-то. А в другом углу метнулось черное…
Я боялся шелохнуться, забавляясь неожиданным ощущением, и в то же время, соображая, как пристроить себя к делу, вопрошающе смотрел на отца…
— А вот как это делается!..— азартно отзывается отец, будто угадав мою растерянность, и выхватывает из нижней клетки белого кролика. За уши.
— Да ты что? Больно ему.
— А почё эдакие вырастил? А? — Отец смеется. — А иначе-то как его возьмешь? Вот сейчас его сунем в эту клетку, специально пустая, потом другого туда, потом третьего. Вот так всех в оборот и возьмем.
— Ага, — говорю я и уношу на огород ведро навоза. Следом ржавый таз и опять ведро…
— А ну-ко, полезай и ты. — Отец пересаживает в маневренный фонд последнего кролика, опускается на колени и, шуруя саперной лопаткой, вычищает клетку. — Ишь сколько накатали ореха-то. — Потом, видимо подумав о чем-то, рассказывает: — А так-то с ними надо аккуратно. Матерь твоя, когда я их только завел, погладила кроленка. А погладить захотелось. Так самка-то все гнездо заела…
— Своих?
— А чьих больше? Вот так! Что хошь, то и думай. И едят тоже — только давай. Обиходили мы эту колонию часа за два. Тут мать подошла:
— Надо бы парочку-то отсадить. Самцы-то у тебя есть?
— А как же? — явно с обидой в голосе ответил отец.
— Ну, ладно. — Мать потопталась около нас и ушла к поросенку, а отец снова открыл угловую клетку.
Крупный серый кролик быстро попался ему под руку и вскоре повис, схваченный за уши, отбиваясь задними лапами.
— Вот он и есть! Хорош молодец. Ты видал, какие они, самцы-то?
— Нет, — говорю. — Ты же недавно кроликов-то завел, первый раз вижу.
— А вот сейчас покажу… – Вынеся кролика поближе к дверям, к свету, отец опрокинул его на спину в ящик с сенной мукой и с моей помощью расщеперил ему задние лапы. Я с любопытством ждал, когда отец укажет мне на доказательства мужского пола. Он, держа одной рукой уши, другой разгребал между лапами пушистую шерстку, и вскоре позвал меня:
— Вот вишь?! Вот оно и есть…
— Да, — согласился я, ничего толком не различив.
А отец чего-то вдруг перестал приговаривать: «Вот вишь, вот оно» — и усердно разгребал шерстку, так что мне стало уж неловко и жалко кролика. Но тот лежал тихо, уже не царапался, будто ему это нравилось. Отец молчал. И я уж вопросительно запоглядывал на него: дескать, да или нет? И, наконец, спросил:
— Так что?
— Да что такое? — вдруг выдохнул отец. — Вот так штука! Сшилка это, а не самец.
— Ну вот. У тебя все так. Я говорила, не бей того самца-то. А ты говорил: еще есть, — мимоходом вмешалась мать, услышав наш разговор.
Отец все-таки еще не терял надежды и снова углубился в шерстку, но, наконец, удостоверился окончательно и стал объясняться:
— Это шурин, Миня, смотрел его тогда. Сказал — самец, я и поверил… Вот к самому теперь и понесу случать кролюху-то.
Отец захохотал, поднял за уши самку, вновь завертевшую лапами, и, слегка поддав, пихнул ее в клетку.
Мать, всегда чрезмерно подверженная панике, запричитала. Отец отослал ее к своим делам, а мне велел поднести зобню.
— Сейчас найдем! Най-де-е-м! Никуда не денешься у меня. Другой кролик, уже белый, недолго поболтавшись на ушах, тоже был опрокинут в сенную муку.
— Опять сшилка. В зобню ее, чтобы второй раз не попалась. Я положил самку на дно глубокой корзины, и она покорно прижалась, виновато светя розовым глазком. А отец уже вылавливал следующего.
— Вроде то же, что и у серого, — сказал я, осторожно держа за лапы очередную жертву.
Отец выщупывал ее еще тщательнее, будто хотел заставить превратиться в самца, и приговаривал, и уже и ко мне обращался за советом:
— Смотри, как думаешь?
— Да вроде опять… — отвечал я.
Но он не соглашался:
— А нет, обожди-ко. Тут, вишь, вроде чо-то выскакивает… Нет, тоже сшилка. Вот, ребята! — Передал ее уши в мои руки.— Тоже в зобню. — Сам уже выволакивал следующего. — Опять она? Ох, Миня!.. Ну-ко, давай теперь из верхних клеток поищем…
— А сколько их тут, голов-то?
— Да штук двадцать две. Вот сколько… Ну, где-то около того. До потемок, парень, провозимся.
— А не найдем, так что?
— А говорю, к Мине понесу. Пущай случает. — И отец снова захохотал, показывая на зобню, в которой уже было полно самок.
Переваляли мы в сенной муке больше десятка кроликов, я уж было разуверился, но тут отец вдохновенно и торжественно объявил:
— Вот, наконец, добрались. Смотри-ко, Егор…
Я нагнулся поближе.
— Вот вишь, выныривает. Это, брат, не сшилка, не-е! Пупик, настояшшо пупик!
Дело было явное. Молодоватый, но уже в хорошем теле белый кроль нетерпеливо, будто еще стыдясь, выслушал приговор и, как будущий оплот хозяйства, был определен в отдельный дом…