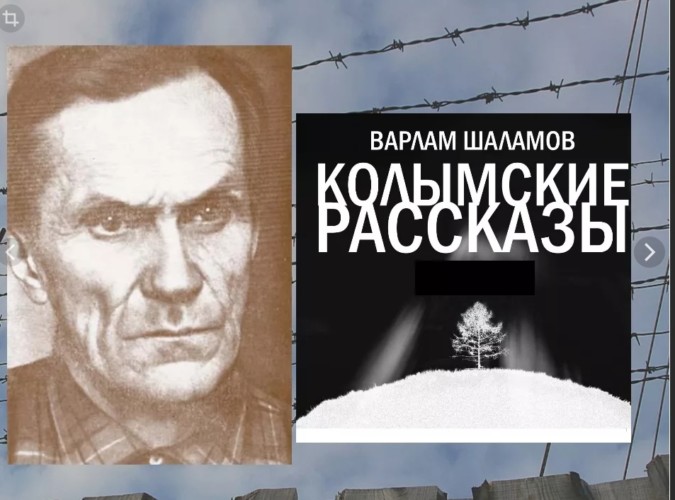Олег ЧЕРНЯЕВ
Санкт-Петербург

Самые счастливые на свете похороны
Давать замок, золотые ключи
Золотые ключи, чтоб не спать в ночи
Нарекать им имена
Надевать им стремена
Золотые удила
Старинная песня
Степные ветра приходили в Софийск всегда в апреле, и всегда неожиданно, потому что вместе с ними приходило чудо, всегда новое. Пять лет назад нагрянувший ветер превратил стены домов в хрусталь, хоть не очень-то и прозрачный, и какой-то сизоватый, но весьма прочный и обращающий свет в голубое сияние, не угасавшее даже ночами и пропитывающее тела людей так, что после они сияли целыми неделями, за что софийцев – этих новых вавилонян эпохи пара и электричества, караванщики дразнили «ваши сиятельства». В позапрошлом году ветер принес дождь из нежных антильских крабов, почему-то разивших олифой и лягушачьей икрой, и пугавших женщин своими шипастыми клешнями до преждевременных родов, что привело к целому поколению семимесячных недоносков – грядущих богатырей второй русско-японской войны. А в этом году уже два дня из беспощадной бездонности великих небес Азии задували прозрачные ветра, с воем сметавшие окурки и яблоневый цвет с улиц, а чудес не было.
Ранним утром по городу пополз запах – звериный и мускусный, но прекрасный и пьянивший. Он шел из самых мрачных теснин Кривой балки, закоулка прокаженных и нищих, кормившихся пороками. Кто-то из мужчин предположил, что в тех грязноватых теснинах талантливые мошенники, видимо, изобрели новый наркотик, дабы насолить китайцам, подмявшим под себя всю торговлю опиумом, а женщины, все как одна живущие только ради любви, заволновались, сообразив, что в Кривой балке создано приворотное зелье, наконец-то способное привязать к ним блудливых мужиков навеки, но дети первыми заметили тонкую струйку голубой крови, оросившую пыль за воротами дома Паучихи. Дети макали прутики в кровь и рисовали узоры на земле, девочки тайком мазали кровью запястья и локоны за ушами, потому, что ее аромат был совершеннее самых изысканных духов. Так они и игрались с дивной кровью цвета небес, пока её не заметили взрослые и не вошли в дом старой сводни Паучихи, где увидели хозяйку в мешковатых одеждах нищеты, сидевшую за столом и державшую в руках белую розу, шипом которой она занозила палец, из которого сочилась голубая кровь совершенства.
Очередную смерть в Софийске встретили с привычным чувством досады, ибо в городишке проживало полным-полно стариков, помнивших великолепные времена бессмертия, когда можно было жизнерадостно грешить без оглядки на кары небесные и даже корчить рожи самому Господу, утратившему власть над человеком, и страстно желавших, что бессмертие вернется, чтобы возвратится в первозданное, свинское состояние вечного счастья. А каждая смерть омрачала надежду. Делать ничего не оставалось – приглаженный брильятином достойный доктор Михаил Афанасьевич, по указанию урядник посетивший усопшую диагностировал что смерть наступила от потери крови из мизинца левой руки, который был занозен шипом белой розы. Но, над бланком он вдруг растерялся – эскулап не знал имени глухонемой сводни, понимавшей по движениям губ все языки мира, а ее гнусную кличку – Паучиха, его рука вдруг сама не осмелилась вписать в бланк, ибо источавшая звериный и божественный аромат крови старуха смотрела из-за той грани бытия так величественно и ясно, что эрудированный эскулап-литератор пожалел, что он не язычник, и поэтому не знает ни одного из имен богинь прошлого.
Так в магической долине под перевалом, где не стихали ветра, а голоногие призраки эллинов орошали сверхъестественной мочой коровьи лепешки прямо на площадях, началось очередное чудо – чудо воскресшей любви. Все как один заметили, что Паучиха приняла смерть весьма достойно, ибо на ее лице не было выражения счастья, с которым уходили простоватые, махнувшие на себя и на мир грешный рукой, но Господу всецело преданные. Но выражения отчаяния, с которым умирали атеисты и франкмасоны, на ее лице тоже не было. Паучиха заметно помолодела, умерев, словно распрямилась, стала выше ростом и женщины пришедшие простится со старухой, которая искусно помогала им избавляться от томлений всех мастей, заметили, что колченогая сводня полна света. Собирая старуху они смахнули со стола карамельные крошки и розовые лепестки, платком выгнали из комнаты мух, норовивших усесться прямо на бездонные глаза, с затаенными улыбками застелили знаменитый топчан, про который говорили, что из-за пропитавшей его крови девственниц он стал таким тяжелым, что его даже Атланту не поднять, поставили в центе единственной комнаты скамью и положили на нее ароматное тело, скрестили руки на груди усопшей, и прихватили их лентами. Собираясь подвязать подбородок, они сняли с Паучихи серый платок, в котором она входила вечно и разом обомлели – на плечи упали никогда ранее не виданные чудеснейшие золотые волосы головокружительной красоты и засияли так ярко, что все чашки, лохмы паутины, кастрюли на печи, пыльные занавески вдруг привиделись золотыми, словно эта покривившаяся хибарка нищей старухи стала дворцом Мидаса.
Казалось, что золотая жила открылась в этой комнате, где десятилетиями, за пять копеек в час сопели и стенали в потных сотрясениях бездомные юнцы и девки, а каждый взмах лопаты все открывает и открывает новые самородки. Паучиха не переставала поражать – вслед за золотой гривой вселенской красоты открылись изящнейшие запястья с тонкими пальцами, неоскверненными ни въевшимся потом, ни ломовой работой, лицо, протертое влажной губкой разгладилось, избавилось от пыли и гнусноватой и нечистой славы Кривой балки и стало чистым ликом совершенства, а когда из комнаты вынесли таз с теплой водой и бережно вылили её в кувшин во дворе (воду, которой обмыли покойника, хранили сорок дней) то на скамье лежала самая прекрасная женщина вселенной, самая златовласая и женственная, с янтарными глазами и золотистыми родинками – «поцелуями эльфов» на плечах и бедрах, настолько величественная, что женщины не знали плакать им или молится, или же хором завопить, выпрашивая небеса воскресить эту красоту, самую совершенную на земле, чтобы только узнать как можно такой родиться.
Пораженные и восхищенные, уже одурманенные волнующим запахом крови, все сгущавшимся и сгущавшемся в комнате и томившем, женщины решили обрядить покойную (кличка Паучиха теперь царапала губы) в самые лучшие одежды, достойные ее красоты, сшить ей саван из самых дорогих шелков и белье из кружевов французских блудниц, обернуть шею нитями жемчуга и вложить ей в руки самые священные свечи из Иерусалима. Но мы жили на юге чудес, где действительность всегда чудотворнее самых неправдоподобных житий святых – женщины стали шариться по приземистой хибарке, где был один только шкаф и два сундука, оказавшихся чудесней сказок Шахерезады. В одном мирно соседствовали божьи коровки и куски киновари – баснословной драгоценности в эпоху могущества киммерийцев и постройки пирамид, а в другом сундуке – шершавом и облезлом как самая грязная старость, оказались предметы вполне уместные покойной – горностаевая мантия императрицы и высокая корона из кованного золота, хранившая на себе следы молоточков косматых ювелиров эпохи Иллиона и сирен, сводивших с ума мореходов, чьи потомки призраками бродили по Софийску. Здесь же была серебряная чаша для омовения рук – переполненным трепета женщинам показалось что это священная чаша где умыл руки Понтий Пилат, тяжелый, витой жезл из сплава золота с серебром, и перстень – загадочный, выпуклый и тяжеловесный перстень жрицы Атлантиды, как раз впору пришедшийся к сочившемуся голубой кровью холенному пальцу покойницы. А чудеса только начинались.
Очарованные женщины, как бы они не были ошеломлены, всегда знали, что делать. Они сгрудились в домике и прялись шить саван, вдохновленными руками сотворяя погребальную рубашку, достойную стать парой горностаевой мантии. Их всех лихорадили вопросы и фантазии. Неизвестно было кто она, эта величественная красавица и как звучало ее имя. Избавленная от мешковатых тряпок нищеты, только теперь открывшая свою точеную красоту Паучиха (да простит Господь нас грешных, за то, что эта гнусная кличка нам, дурам, на ум идет) оказалась совсем не старой, но обнажившееся достоинство с каким она лежала на скамье, ясно говорило о глубине лет и мудрости приходящей лишь с возрастом. Было неведомо ни ее имя, ни тайна, заставшая скрыть красоту, ни то, к какому роду-племени принадлежала эта преобразившаяся женщина, и неведом был тот язык, на котором с ней говорили родители. Более фантазийному человеку пришли бы мысли о божественном сотворении, но практичность женщин спасла их душу от ереси – не мудрствуя они припоминали что сводня по движениям губ понимала речь караванщиков из таких далеких стран, что даже прожженные шлюхи, эти самые просвещенные в географии женщины мира, ибо в их постелях бывали мужчины всех континентов, даже их названия выговорить их не могли, припоминали, что она знала все пять диалектов китайского языка, и приходила к узкоглазым выходцам из Поднебесной на помощь, когда они сами друг-друга не понимали, и с улыбкой вспомнили стародавнюю историю что когда в бордель Лизы, за руку, словно малыша, привели лилового пигмея, негра-людоеда Андаманских островов, то и его глухонемая поняла, чем так восхитила истосковавшегося от одиночества людоеда, что он к ней посватался. Так они и перебирали воспоминания и сплетни словно бисер – красивый и пустопорожний, до тех пор, пока не пришла с кофейником в руках Анула, старая гречанка, искусная в ворожбе на кофейной гуще и вдруг не вспомнила, что покойная читала слова даже когда губ говорившего не видела, и тогда все сообразили что она слышала слова человека не зрением, а сердцем. Припомнили, что сводня пользовалась величайшим почетом у Лизы, последней жрицы Лилит, и эта желтоглазая владычица легендарного борделя, умеющая видеть души людей во всей их наготе, ничего не предпринимала без одобрительного взгляда Паучихи. Лиза знала больше других смертных, но желтоглазая владычица, предварительно расспросив Смерть уже лежала в изящном гробу на горном склоне под надгробием, где был изображен на граните ее портрет такой вызывающей жизни и красоты, что его творец, ослепший и высохший как ветвь саксаула, уже лежал на новом кладбище Софийска. От Лизы теперь ничего нельзя было добиться, ведь даже посмертного призрака покойницы в Софийске не появилось – здесь такое бывало нередко. Напрягая память старухи припоминали что появление Паучихи тоже было загадкой – она не пришла в легендарном караване жен и невест казаков, когда женщины ослепнув от миражей и песчаных бурь Моюнкумов брели, вытянув руку, вслед за караваном Якуба, дребезжащим безбожно фальшивящей музыкой из часовых механизмов, не было Паучихи в огромном гареме казаха Океана, и совсем несуразным было даже представить появление Паучихи с толпами честных тружеников, потянувшихся в Семиречье, где земли такие же бескрайние как небеса над головой – грязноватая сводня, подобно выдающимся философам античности презирала труд и не оскверняла руки даже уборкой, поручая смахивать пыль и мести пол в хибаре девкам, у парней которых не хватало копеек на утехи на угловатом топчане. Почему она молчала всю жизнь, зачем грязными одеждами и платком, более позорным чем паранджа, скрывала свою красоту и почему в ее венах струилась чистейшая голубая кровь совершенства? Все было неведомо и более загадочно чем облик Смерти. Так, пока женщины терзались загадками, настал вечер, в домике затеплили свечи и женщины заметили, что огоньки на фитилях мерцают как-то особенно печально и душевно, что мотыльки кружат не возле огоньков, а возле лица покойной, которое своим светом соперничает в сиянии с Луной, которой всю жизнь служила эта жрица, что ветер за оконном поет нежно и проникновенно, а окаем луны засиял скорбной радугой, озарившей дождь из звезд пролившихся над Софийском. Вначале всхлипнула одна женщина, затем другая, за ней третья, и они заплакали все, думая как добра, прекрасна и любвеобильна была Паучиха (да простит нас Господь милосердный, что мы по въевшейся привычке называем ее этим именем позора Кривой балки) в былой жизни до Софийска, где знали имя ее имен, и не скрывай она рядом с нами своего великолепия земной богини, с грустью понимали женщины, то все бы люди жили в зареве ее сияния, и тогда бы ни один мужчина, даже самый тупой и бессердечный, не смеялся бы над женщинами, не смел бы призирать нас, посмеиваться над бабами, да одного взгляда на Паучиху (прости нас за кличку эту Господь, прости, прости, прости) хватило бы, чтобы восхищаться женщиной до смерти, или же вечно, если бессмертие все же вернется в городок. О, как нежны, заботливы и великодушны стали бы мужчины, восседай Паучиха на престоле, сколько ласковых слов они бы говорили, как бы не скупились на дорогие подарки, и их бы так вдохновляла эта ослепляющая красота рядом с ними, что они бы превзошли свои силы и могли бы одну ночь любую женщину сделать счастливой. Весь мир бы стал раем земной любви плотской, и ее бы божество было бы не незримым духом на престоле небесном, а восседало рядом с нами. А теперь все потеряно, и когда женщины поняли это, их горе победило природу – женских плач достиг таких сверхъестественных высот, что даже призраки эллинов-язычников набожно перекрестились из-за сострадания к скифам -пришельцам в сем мире, а великие степные ветра своим воем нередко заглушавшие даже глас Божий, были покорены женским плачем, который был так печален, что растрогало до поскуливания даже шакалов, посетивших Софийск, чтобы поохотится за объедками на помойках.
Но женщин не только терзала печаль, дурманил и томил зверский и пьянящий запах крови совершенства, но еще и сводило с ума любопытство. Они уже установили, что покойная была женщиной во всех смыслах этого слова, и теперь терзались, желая узнать кто тот счастливец и почему он ее оставил? Неужели мужчины так бессердечны, что могут бросить такое совершенство? Но эта мысль показалась женщинам таким кощунством, святотатством, богоотступничеством и так их перепугала, что мир тут же сжалился над ними – великий степной ветер шепнул им прямо в сердце, что тот мужчина — самый прекрасный, самый добрый и самый рослый мужчина на земле, утонул давным-давно в море, так давно, что он уже достиг глубоких вод древних морей и парит в тех сумерках глубин окруженный цветами, среди стай тысячелетних черепах, водных драконов и клочьев алых парусов галер Гомера, чьи команды не возвратились к своим женам из под Иллиона, потому что воды древних морей тяжелы и суровы, и не отдадут своих мертвецов до Страшного суда. «Слава Богу, у нас моря нет, и наши казаки-дураки не утопнут» — радостно перекрестились женщины, даже перед ликами величия, думающие о себе прежде всего. Им было жаль Паучиху, их душили слезы, пьянил запах крови, руки ласкал мех горностая, потому что все женщины, от старух до голенастых девчонок не удержались и примерили мантию императрицы, свет в умершей разгорался и женщинам не давал покоя вопрос – как ее звали? Они перебирали имена как драгоценности, но все они были дешевы для этого совершенства. Может быть, она была Мария? Но это имя показалось таким неуместным для вызывающей красоты кожи и будоражащим ароматом крови, что даже самые набожные и надмирные нищенки, смотревшую на усопшую как на олицетворение души Мира, его отвергли. Может Тамара (это было имя цариц)? Ученые девчонки из женской гимназии припомнили нехристианские имена Клеопатры, Агрипины и Мессалины, прозвучало имя Феодоры (были такие византийские императрицы из актрис), Елена, Далила, Нефертити, и в конце-концов, впадая в грех язычества, вспомнили Венеру, Юнону, Гею и Кибелу, из за неразделенной любви к которой мужики сами себя оскопляли. Но здесь был юг чудес – огоньки свечей уже были язычками радуги, а их свет соперничал с разгорающийся свет печали торжества в глазах людей, а слезы – самая ничтожная и пустопорожняя влага женского естества, падая на пол, превращались в ограненные кристаллы чистейшего хрусталя, и вскоре хибара засверкала как новый небосвод преподнесенный людям расщедрившееся Богом. Собирая покойную, женщины ломали голову над тайной имени Паучихи, пока не пришла Ева – юная жена изумрудного короля Петра-маленького Толмачева, королева Софийска, самая красивая и самая грациозная женщина волшебного мира чудес. Замерев в дверях, на она посмотрела на усопшую, прикрытую только золотыми волосами и вдруг поцеловала ее и выдохнула.
— Она моя сестра!
И это порывистое слово признания – сестра, вдруг стало именем усопшей. Все женщинами почувствовали себя сестрами спящей богини, сродственницами ее великолепной крови, и только самые молодые и строптивые девки, которые ходили париться в баню только для того, чтобы парни на них в оконце пялились, согласились называть себя ее племянницами. Всех в Софийске словно породнила эта смерть, первая смерть в человеческой истории – странной, мятежной, глупой, несуразной, но все же великой и полной магии, которая открыла, а не похоронила красоту. Но тут возникла другая проблема – мужчины. Уже минула полночь, они устали ждать своих женщин, этих глупых куриц, которые все возятся и возятся с этой грязной нищебродкой из кошмарного квартала, и хлюпая носом кричат сквозь порог что еще не пошит саван, надо сварить кутью и дочитать канон Магдалине двуязыцей, в то время когда печи остыли, дети, которые в этом чудесном мире среди миражей и горных духов уже родятся сразу сумасшедшими, вопят что хотят есть и сидят в грязи перемазанными, а бабы, бледные и заплаканные, с глазами сияющими как фары паровоза (опять очередная чудесная напасть открылась) все суетятся как курицы, посылая то за ладанками в перламутре, то за заветными прадедовскими молитвами на ветхих листках, которые способны распахнуть врата в рай самым закоренелым грешникам, и так раз за разом находят новые уловки, гоняя мужчин то туда, то сюда, когда уже третий час ночи, вокруг весна, ноздри щекочет странный, прекрасный и томящий зверский запах с привкусом солоноватой крови, когда свербит в одном месте, а вокруг воет такой свирепый ветер, что за его визгом не услышат сотрясений самой скрипучей кровати, а у них то кутья не доварится, то курага и изюм никак не размокнут. Мужчины, в глубине души все как один женщин побаивающиеся, заподозрили неладное, ибо даже сквозь приоткрытую дверь (не заходи, мы покойницу не одели) лился свет и было заметно, что полы в доме сверкают как юная галактика; не иначе как эти дуры опять ради любви свои души губят, видимо колдуя возле дохлой бабки на рождение детей, а может обратно у нее невинность выпрашивают, которую и отдали посредством трудов этой сводни и торговки тошнотворными любовными зельями – от такой концентрации безмозглости, что сейчас шуршит юбками в покривившейся хибарке, всего можно ожидать. Так бранились мужчины, подспудно ощущая тревогу, и чувствуя что женщины, выходившие то послать за нитками, то соврать что-то о женской звезде Богородицы, которая дарует загробное блаженство безмужним и до восхода которой усопшую покидать нельзя, все время говорят им что-то важное, сокровенное – говорят размягченными взглядами, нежными поглаживаниями, затеплившимся светом в глазах и тем затаенным, недосказанным в каждом слове. Но мужчины были глуховаты к этому нежнейшему языку и смущаясь все больше злились, и бранились – черт возьми, сколько возни и влаги из-за дохлой старухи, которую, наверное, черви сожрали заживо, так что червям могильным и поживиться будет нечем. И тогда одна женщина, оскорбленная подобными словами, распахнула двери – ушедшая, укрытая своей роскошной гривой лежала на скамье, полная света.
Мужчины, онемевшие и ошеломленные, топтались на пороге, мотая лихими чубами, зная, что этого впечатления им не забыть, и ни одна блудница бессчетных борделей Великого шелкового пути, ни одна любовь, минувшая или грядущая, и ни один, даже самый великолепный порнографический фильм, из тех, что показывали ночами в синематографе, предварительно передав пять рублей уряднику и два рубля городовому, не затмят увиденное. Они растерялись как дети, и смутились, вдруг прозрев что руки у них слишком шершавые, а лица слишком загрубевшие от непогоды, а сердца слишком черствые, толи от махорки, толи от этой жизни, где честь казачья, да жизнь собачья, а самое главное от горестного осознания, что чувств на свете много, а слов мало, а языки слишком костные чтобы произнести эти слова – ну, это была общемировая трагедия всех мужчин, которые полны чувств, но не могут, никак не могут их выразить. Так они и переминались на пороге, смущенные и жалкие, боясь растоптать остекленевшие слезы-брильянты, усыпавшие пол, не зная куда деть руки, а куда ноги, и где прислонится в этой тесной, священной хибаре, где сгущались волшебные и звериные запахи крови совершенства, напитывая своим ароматом все предметы, все, даже помойное ведро с огрызками яблок (Паучиха была до них великая охотница), бледнели от этого дурмана и не знали, что делать, что говорить и как плакать. Но у мужчин были глаза – красноречивые и искренние, теперь растроганные, восхищенные и умиленные, что женщины поняли, что мужчины все поняли, как надо, да так глубоко, что жены даже стали злится и ревновать к покойной – от бабы, даже божественной, любой пакости можно ожидать.
Но мужчины тут же нашли себе дела. Одни пошли сколачивать гроб из досок ароматных тянь-шаньских елей, тонких, но прочных как борта корветов, другие ушли копать могилу на холмах за бурным озером, где была самая мягкая и нежная земля на юге чудес, а третьи стали советоваться, что стыдно будет поставить для нее простой крест, и сразу начали чертить грандиозное надгробие-памятник, который они поставят, как только земля на могиле осядет. Некоторые мужчины ушли за священником-исполином попом Батыром, который в этих диких краях был всемогущ также как патриарх Никон в свои самые лучшие дни, и был почитаем за свою нечеловеческую силищу людьми всех вероисповедований. Немногие мужчины остались рядом женщинами, чтобы сидеть с ушедшей. Эти оказались самыми счастливыми и принесли счастье своим женам. Чудеса не заканчивались. Казалось время остановилось под сводами этой жалкой крыши с выпирающими балками – здесь, набирая силу, сияли женские слезы, мерцал свет умершей, а терпкий, зверский и восхитительный аромат голубой крови щекотал кожу, будоражил, воскрешал фантазии и овеществлял их, делая зримыми. Окрыленные сочувствием мужчин, женщины разгладили мех горностая и надели его на ушедшую, водрузили на нее корону, засверкавшую червонным золотом, зажали в тонкой ладони жезл из магического сплава золота с серебром – когда-то он был даром Креза дельфийскому оракулу, где служила эта великолепная нимфа-пифия Луны, знавшая в лучшие дни и пение Орфея, и любовь Аполлона, а на утонченный палец, все сочившейся голубой кровью надели перстень и поставили у скамьи загадочную чашу из серебра, чтобы кровь стекала в нее. Так был извечен на свет самый дорогой самородок из золотой жилы, открывшейся в этом доме утром – на скамье, лучась светом, в окружении свечей и россыпей стеклянных звезд-слезинок лежало самое совершенное создание земли и небес, такое что счастьем было поверить что есть такое чудо, и поп Батыр, пришедший отпеть покойницу, напевая молитвы знал ясно и беспощадно, что это не он свершает священнодействие, а таинство само, по высшей воле мира и загадочного Господа творится вокруг него и он только участник этого действа. Смешались явь и волшебство; женщины плакали, множа звезды-слезы на полу, но плакали с затаенными улыбками, потому что вновь зацветали трепетные рощицы их фантазий как в дни юности, и теперь, среди зверского дурмана этой совершенной крови все грезы стали осуществимыми; их мужчины, в дымке мечты были самыми любящими, нежными и сильными и одним свистом могли заставить степные ветра служить им, нужда, эта грязная мерзость, обладающая даром перекусывать крылья человеческие и иссушать любовь, корчилась, растоптанная мужским сапогом, потому что мечта окрыляла любое старание, и не было границ для сил человека. В темные окна было видно, что мир вновь стал садом, а тьма ночей приходит только для того чтобы сделать женщин счастливыми. А мужчины, стоя рядом с женщинами, и по привычке согнув шеи под утробный рев попа Батыра, видели и цветы и розы, и овеществленные фантазии, просто умилялись малости и скромности желаний жен перед гордыней и космическим размахом мужчин, и верили в себя, поняв, что они могут построить на земле рай.
Это были самые счастливые похороны на свете. Женщины собрали все красивые цветы, распустившиеся во всех дворах в ту волшебную ночь, а мужчины сделали самый прекрасный гроб и в порыве вдохновения украсили его резьбой-узорами из асфоделей и загадочных, прохладных цветов растущих на камнях плоскогорий страны мертвых, куда отдавали жившее рядом совершенство. В трубах оркестра, поднимаясь до ноты сверхъестественных высот играл ветер, утащивший барабан прямо из рук музыканта, небо было высоким, бездонным и чистым до великолепия, и в нем парил печальный и кроткий, ручной дракон, прилетевший взглянуть на этот чудесный город – Софийск, где его, молодого красавца-дракона когда-то так любили. На похороны собрались все, даже восстал с дивана городской голова – подагрик и надел парадный мундир в позолоте, словно был на приеме у императора, и людей и цветов было бессчетно и все толпились возле гроба, чтобы окунуться лицом в душистый и звериный аромат совершенной крови, все хотели нести гроб, который словно окрылял человека – к рассвету ушедшая потеряла вес и стремилась в небеса, куда, кружась вслед за ветром, летели цветы. Слез было столько, что собери затем эти остекленевшие слезы и переплавь их на стекло для окон, рюмок и графинов, то магическая долина под перевалом стала бы мировым центром стеклопроизводства и софийский хрусталь достойно соперничал бы с самым дорогим хрусталем из Богемии. Но в этих слезах печаль мешалась с радостью, а бескорыстие и непрактичность русских сердец просто-напросто собрали весь хрусталь в каплях слез и насыпали его в искрящийся, хрустальный курган у могилы – такого памятника не имели ни английские королевы, ни даже всемогущие императорские наложницы Китая, перед причудами и вздорной глупостью которых когда-то трепетал весь мир Азии. В Софийске все почувствовали – такого совершенства красоты и величия женщины больше не было и уже никогда не будет. Но слезы печали мешались с радостью – все чувствовали себя породненными, сблизившимися в этой огромной толпе, куда затесались фантазии, обредшие явь в эту ночь, и даже голоногие призраки эллинов в лавровых венках. Все стали братьями и сестрами, и все знали что прошлое закончилось, закончилось и все, и задолго до того как человек остановит Смерть, и может быть долгожданное бессмертие еще не пришло, но прошлому уже не быть; люди, смягчившиеся и проясневшие, наконец-то открывшие себя для любви, которая так прекрасна когда являет себя в виде женщины, все как один знали, что теперь они очистят от грязи Кривую балку, покроют ее дома свежей соломой и распишут все стены самыми дивными цветами, омоют и оденут в лучшие одежды нищих этого закутка, исцелят прокаженных и сядут с ними за стол и наконец-то наденут серебряные колокольчики бенгальцев на шеи верблюдов, которые, причесанные и ухоженные станут самыми грациозными животными на земле. Теперь потолки во всех домах будут выше, а комнаты просторнее, в каждом дворе среди камней будет бить чистейший родник, сады будут плодоносить вечно, а цветы распускаться каждый день, и зимой, и летом, ветер станет кроток и теперь будет навевать не тоску а счастье, и теперь отныне, навеки и навсегда Солнце не зайдет над миром, где побывало совершенство. Все почувствовали спазм в горле, когда комья земли застучали о крышку гроба, но проводили ушедшую достойно – в могилу на самой мягкой и обильной земле этого мира, рядом с сияющим курганом из слез-брильянтов, а полгода спустя, в сентябре, мужчины поставили памятник на могиле, шикарный памятник из гранита и бронзы с медью, украшенный ангелами и крылатыми конями, такими могучими и неистовыми, что в этом мире чудес они нередко ржали и высекали искры копытами. Только на могильной плите не было портрета богини, потому что не родился еще такой гений, чтобы воссоздать эту красоту на холсте, и теперь у волшебного юга чудес появилась высокая и достойная цель – произвести на свет и вырастить гения, который смог бы нам поведать в образах об этой женщине. И еще на памятнике не было надписи с именем ушедшей, но по этому поводу софийцы не тужили, ведь недаром когда-то державший в Софийске фотобалаган вселенский мудрец и чудодей Якуб Памирский говорил, что все имена земные это только маски и личины, а истинное имя человека знает только Бог.
.
Об авторе:
Олег Черняев – русский, но родился и вырос на Востоке. С 1997 года живет в Петербурге, окончил институт повышения квалификации при Университете Кино и Телевидения (специальность – режиссура кино и ТВ), работал на телевидении.